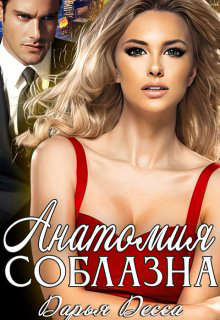спросил я насмешливо.
– Твої очі, мов криниця
Чиста на перловім дні,
А надія, мов зірниця,
З них проблискує мені,
– романтично продекламировал напарник, прикрыв глаза.
– Ого! Не знал, что ты такой знаток украинской поэзии, – улыбнулся я.
– То це Іван Франко. Чув про нього?
– Ну так… – неопределенно ответил я.
Петро недовольно покачал головой.
– Что тебе не нравится? – спросил его. – Подумаешь, Ивана Франко он цитирует. А ты про Бориса Пастернака слыхал?
– Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела,
– рассказал я. – Что, не слышал? А как насчет «Василия Тёркина»?
– Это кто такой? – спросил Петро.
– Поэма Александра Твардовского, одно из главных произведений в его творчестве.
«Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, –
Ни приметы, ни следа»,
– что, не слыхал?
Петро отрицательно помотал головой. Я раскрыл рот, чтобы окончательно пристыдить своего напарника незнанием советской литературы (сам-то её только в школе проходил, да и то мельком в 11 классе), но вдруг до меня дошло: что я несу?! Какой Пастернак, какой Твардовский?! Всё, что я цитировал Петро, написано было когда? Поэму стали в газетах публиковать только в сентябре 1942-го, я же сам о ней реферат писал. Ну, а «Доктора Живаго», откуда стих, Пастернак и вовсе… Его ведь даже запретили в СССР публиковать!
«Нет, – подумал я расстроенно. – Надо мне всё-таки побольше молчать и слушать, пока не вляпался».
Мать, читая письма Лёли, улавливала растущее напряжение между строк. Валя её успокаивала: она знала из рассказов о войне, что зенитчики стоят за передовой линией обороны. Потому им гораздо безопаснее, чем тем, кто находится в окопах напротив врага.
– Мамочка, всё с ней будет хорошо. Конечно, опасно, но на войне всюду опасно, а она у нас умная, высовываться не станет, – говорила Валя. Маняша согласно кивала, но не верила ни единому слову: Лёля, с её горячим сердцем, отсиживаться в окопах не станет. Она ринется в самое пекло, сорвиголова, а лучше бы сидела подальше, но… Характер такой. Упрямый и решительный. Так что не верила мать заверениям дочерей. Всё равно это война. Там стреляют и убивают. Там никто не может быть абсолютно спокоен за свою жизнь.
Да и сама Валя, хотя и говорила матери, что с Лёлей всё будет хорошо, чувствовала совсем другое. Чем ближе немцы подходили к Волге, тем сильнее становилось напряжение вокруг. На занятиях в институте больше никто не шутил, все вели себя предельно сдержанно и серьёзно. А главное – в группах практически не было теперь парней. Их либо забрали по повестке, либо сами ушли добровольцами. Осталось лишь не более десяти человек, признанных негодными к строевой службе, да и те чувствовали себя глубоко несчастными.
Как, например, Виктор Нестеренко. Высокий, симпатичный, умный и… очень близорукий. Очки у него на лице были такой толщины, что глаза становились крошечными. Но стоило снять линзы, как им возвращалась прежняя величина, и тогда было видно: природа наградила Витю большими красивыми голубыми «зеркалами души». С такой близорукостью его раз за разом выпроваживали их военкомата, куда он ходил уже раз пятнадцать.
Когда же не пустили в шестнадцатый, он пришел в деканат и заявил, что сбежит на фронт, если ему не поручат какое-нибудь важное и ответственное дело здесь, в институте. Там подумали и решили, коль есть инициатива снизу, назначить Нестеренко комсоргом всего факультета начального образования. Как раз вакансия была: студент четвертого курса, занимавший эту должность, недавно удрал-таки добровольцем на фронт.
Жизнь в глубоком тылу, словом, продолжалась. Разве что кафе позакрывались ввиду отсутствия посетителей. А в кинотеатрах люди если и бывали, то разве посмотреть «Боевой киносборник», каждый из которых вбирал в себя несколько короткометражных художественных фильмов. Валя сходила с подругами на несколько, когда выдавалось свободное время. Потом перестала: уже не оставалось сил, физических и моральных, чтобы развлекаться.
Одна радость была теперь в доме Дандуковых – маленький Володя, крошечная копия своего отца. Рос он таким же веселым, тянулся вверх, и уже в свои почти три года был довольно смышленым мальчишкой. Что самое удивительное – почти не проказничал. Если бабушка или мама строго смотрели на него, тут же прекращал и плакать, а чтобы выпрашивать чего-нибудь – такого взрослые и припомнить бы не смогли. Это раньше, до войны, какой-нибудь малыш, увидев на витрине магазина игрушку, мог начать её просить, требовать даже.
Теперь дети, как заметила Валя даже по своим подопечным в детском саду, стали иными. Серьезными, будто резко повзрослели. Вот и Володя рос таким же. Сосредоточенно возился со своими кубиками и солдатиками, ни о чем не прося, не пытаясь побаловаться. Единственный, кому порой доставалось от мальчишки – это большой рыжий кот Тишка, но и тот уже привык, что маленький хозяин может просто гладить, а способен и веревочку с бумажкой с хвосту привязать и заливаться потом смехом, глядя, как кот кружится, пытаясь самого себя поймать.
Володя стал единственным светлым лучиком в семье Дандуковых. И Маняша, и Валя радовались, что он растет здоровым и крепким. И мечтали о том, чтобы вырос он, и в его судьбе больше никогда не было войны. Да и эту пусть забудет поскорее, когда вырастет. «Незачем о ней вспоминать», – думала бабушка, глядя на внука.
***
Артём видел, как Лёля садилась в поезд и отправлялась на фронт. Он смотрел, как она прощается с родными, как машет им зажатой в руке пилоткой, даже как блестит на головном уборе новенькая эмалированная алая звездочка. Но подходить не стал, чтобы не превращать расставание в тяжелую драму для них обоих. Ему-то, конечно, что. Он мужчина, выдержит, просто обязан быть сильным и не показывать своих чувств. А вот Лёля… Она, конечно, тоже человек с почти железным характером, но все-таки девушка.
Потому Артём стоял поодаль, закрытый деревом, и выглядывал из-за него, чтобы ни Лёля, ни её мама, ни Валя не смогли его заметить. Он мысленно прощался с девушкой, запоминая каждый её жест, каждое движение её такой родной и любимой фигурки.