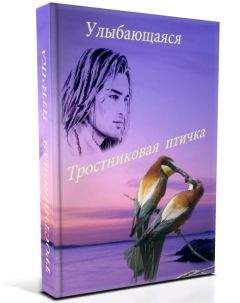Все это я и пересказал Уне. Та покачала головой, мол - негусто, нахмурилась и несколько минут напряженно разглядывала свои сцепленные на коленях пальцы. А потом решилась.
История была простой, страшной и очень керимской. Такой простой и такой страшной, что всю правду о ней не знал ни Расмус, который был участником событий, ни уж тем более мой отец, который её спровоцировал. Уна с Расмусом отправились в Храм получать благословение через неделю после свадьбы. Обычно в Храм приходят в первые три дня цикла, начавшегося после свадьбы, но Уна была беременна, торопиться было некуда, а дом, который снял Расмус, был полупустым и голым. Вот мама с отчимом и обустраивались, заодно закупив все, что нужно для ритуала, и новой одежды Уне - из дома Эда она не взяла ничего. Правда, как выяснилось позже, сундучок с её украшениями Эд все-таки всучил Расмусу, но молодой семье тогда было не до драгоценностей. А по приезду оказалось, что прежнюю Младшую Дочь, сухонькую бабульку, что жила в тамошнем маленьком Храме, и которая благословила брак мамы и отчима, почему-то сменили на молоденькую девушку. Уне показалось, что та узнала её, но мама никогда не видела храмовницу раньше. Расмус остался на пороге Храма - на самом деле там есть весьма удобная ниша со скамьей, как раз на этот случай. Уна же последовала за юной жрицей в Храм. Они подошли к огромной, подавляющей статуе Праматери в центральном зале, и Уна почувствовала, как сжимается сердце в странной тревоге. Жрица велела ждать, сама скользнула куда-то вбок, вернулась и протянула чашу, которую держала двумя руками. Чашу надлежало выпить до дна, и Уна пила глоток за глотком под пристальным взглядом молодой храмовницы и давящим, неживым - Праматери.
Последнее, что она помнит - что в чаше осталась едва ли четверть. А потом внезапно - чернота, невыносимая боль и жар. Боль длилась и длилась, мама впадала в забытье и возвращалась обратно, к боли и темноте. Она слышала голоса, но не понимала ни слова, и больше всего мечтала умереть. Окончательно пришла в себя Уна только через неделю, в их с Расмусом доме. Отчим осунулся, сильно исхудал, и даже не смог порадоваться толком тому, что Уна открыла глаза - только улыбнулся скупо, но именно в тот момент мама поклялась, что сделает все, чтобы он был в этом браке счастлив. А потом в комнату заглянула такая же осунувшаяся и серая храмовница, и выставив Расмуса из спальни, доходчиво объяснила, что же произошло. Иномирский организм Уны выдал побочку на препарат для стимуляции рождаемости, который и коренными керимками переносился с большим трудом и осложнениями. Уна же едва не погибла сама и чуть не потеряла беременность, которую так старательно скрывала. Ей повезло, что жрица даже не успела толком начать ритуал. Младшая дочь Юстимия и Расмус боролись за жизнь Уны больше недели, а Юстимия, нарушив кучу внутренних предписаний Храма спасла ребенка. Тогда же Юстимия сказала Уне, что той повезло, и что будь она чуть больше землянкой - никакие ухищрения не спасли бы ее, даже если бы она не носила ребенка. Когда мама принялась благодарить жрицу, та лишь покачала головой, и сказала, что старалась не для неё. С этой загадочной фразой Юстимия, Младшая Дочь Храма поселка Кей-Хосров покинула дом Уны и Расмуса.
Через месяц родители переехали, и постарались обо всем забыть. Сестру Юстимию они снова увидели в Таншере почти два десятка лет спустя, и она была уже Старшей Дочерью родового храма Впрочем, и мама с Расмусом, и Старшая Дочь Юстимия старательно делали вид, что они не знакомы. Им всем так было проще.
- Иногда я ненавижу Кериму, - сказала Уна, - она, словно проказа, дотягивается и заражает унынием все светлое, что есть вокруг меня, высасывая из него радость и счастье. Наверное, я должна ненавидеть эту девочку, ради жизни которой ты должен умереть. Должна - но не могу, потому, что мне до сих пор иногда снится темнота и боль и я боюсь не проснуться, а еще потому, что если ты позволишь ей умереть - это будешь не ты.
- Я давно принял решение, - улыбнулся я матери, - она улетит, как только мы с её отцом сумеем это организовать. Как ты думаешь, много у меня времени?
Уна вздохнула:
- Это знают только она и храмовницы. С некоторых пор Храм предпочитает подстраховываться, а капля крови может рассказать многое. Если Вы не появитесь в Храме в первые два дня нового цикла - они придут за Соней сами.
И вглядевшись в мое расстроенное лицо, погладила меня по плечу:
- Ничего, сынок. Я узнаю это сама. Хоть в чем-то смогу помочь.
И вот теперь я лежал в неудобной позе, боясь пошевелиться - рядом со мной, устроившись щекой на моей руке и доверчиво прижавшись ко мне спиной, спала моя Птичка. А внутри вел обратный отсчет часовой механизм: тик-так, завтра - завтра - завтра. Нет, мама говорила что-то о том, что сроки могут сдвинуться, что женский организм - не процессор, и имеет право быть неточным. Но я слишком долго жил, чтобы разувериться в благосклонности праматери и теперь судорожно искал выход, и не находил ни одного. А потом Соня неожиданно вскинулась с громким криком, я метнулся её успокаивать, и все мысли высыпались из головы, как сушеный горох из дырявой коробки.
Я не успевала и знала об этом. Флайбус двигался не быстрее улитки, мне казалось, что если я побегу пешком - я легко его обгоню. И все-таки мы приземлились, и мне было все равно, как я посажу эту долбанную медлительную колымагу, потому что сразу после посадки я рванула ремень, открыла дверцу и выпала в дождь. Он должен был стоять за забором, но его там не было, и опять резануло по сердцу мыслью, что я не успеваю! Бежать, бежать, к нему, туда. Ноги словно вросли в чавкающую грязь, в которую превратилась тропинка, а это значит, что дождь льет уже давно, и я не успеваю. И все-таки я вбегаю в дом, не разуваясь бегу вверх по лестнице, оставляя мокрые, грязные следы, но мне все-равно, потому что это не важно, все не важно, а важно только одно - успеть. Вот и наша спальня, дверь открыта, я вижу, что Сайгон лежит на боку, и успеваю обрадоваться, что он не придумал себе глупостей, а просто лег спать. 'Сай!, - кричу я ему, - Все хорошо! Я успела!', но он молчит и тогда я обхожу кровать, уже зная, что увижу, но не желая поверить в это. Плечо под моей рукой ледяное и каменное, глаза Сая открыты и пусты, а из груди торчит нож, на рукоятке которого повязан мой шарф. Крови нет, и я плача пытаюсь тормошить мужа, кричу, бью его кулачками. И пустые серые глаза ловят мой взгляд. 'Почему ты опоздала? Мне так холодно' - говорит мне этот чужой, мертвый Сай, и тянет ко мне руки.
Я проснулась, захлебываясь криком, чувствуя, что меня бьет озноб, а по щекам текут слезы. И Сай, мой живой, горячий Сай, обнял меня, прижал к себе и стал гладить по голове, а я цеплялась за него и все спрашивала: 'Я же успела? Я же правда успела вернуться?' 'Да, да', - баюкал меня Сай. Теплый. Живой. Мой.