Так что ангелы никогда даже и не догадывались, что было похоронено под их ногами.
Не догадались бы спуститься вниз, под город. Куда химеры несли свои тела и вели своих детей за руку. Уйти в душную темноту и никогда из нее не вернуться.
Или остаться наверху и встретиться лицом к лицу с ангелами.
Это был выбор смерти, и сделать его было легко. Та смерть, что в храме, была ласковее. И возможно... скорее всего... не навсегда.
Бримстоун ничего не обещал. Разве он мог? Это была всего лишь мечта.
— Ты всегда был мечтателем из нас двоих, — сказал Военачальник ему, когда Бримстоун пришел с предложением. Они, два старых создания — два «старых монстра», как бы их назвали враги — восставшие из самого жалкого рабского существования, чтобы поквитаться со своими поработителями и выкроить своему народу тысячу лет свободы. Тысячу лет, но не более. Так уж вышло. Все закончилось, а они очень устали.
— Бывали у меня мечты и получше, — сказал Бримстоун. — Тот собор предназначался для благословений и свадеб, а не для воскрешений. Я никогда не мечтал, чтобы он превратился в могилу.
Кафедральный собор являл собой массивную естественную пещеру, которая лежала под городом. Кому-то никогда не доводилось видеть ее сталактитов, но не ревенентам, которые приходили в себя на каменных столах. Независимо от того, о каких благословениях и свадьбах он там не мечтал, когда впервые ее обнаружил и выстроил город над ней, теперь он видел в ней только одно предназначение: дым воскрешения и хамзасы.
А теперь еще и это.
— Не в могилу, — сказал Главнокомандующий, опустив руку на сгорбившееся плечо своего друга. — Разве не в этом смысл? Вовсе не могила, а кадило.
В кадиле, запечатанном надлежащим образом, душа может сохраняться бесконечно. И если собор закрыть, его вентиляционные шахты заблокировать, а его длинную спиралевидную лестницу разрушить и скрыть, то Бримстоун предположил, что он может служить, в сущности, массивным сосудом для сохранения тысячи душ.
— Это может стать даже хуже могилы, — предупредил он.
— Но чья это идея? — спросил Военачальник. — Кто я такой, чтобы убеждать тебя, того, кто пришел ко мне с ней? Ты можешь взглянуть сегодня в окно и увидеть небеса, с которых дождем льет огонь, и сказать, что все было не зря, все, что когда-либо мы сделали, потому что сегодня мы все потеряли. Но народ был рожден и жил, и познал дружбу и музыку в этом городе, уродство и ужас, каким оно есть, и все в этой стране, за что мы боролись. Кто-то состарился, иным не так повезло. Многие рожали детей и растили их, и получали радость, зачиная их, и мы дали им столько времени, сколько смогли. Кто когда-либо смог сделать больше, друг мой?
— А теперь наше время закончилось.
В улыбке Военачальника сквозило сплошное сожаление:
— Да.
Для них же могилы (сосуда) не могло быть, потому что ангелы не оставят камня на камне, пока не перевернут все и не разыщут Главнокомандующего и воскресителя. Император должен был насладиться финалом по своему сценарию. Может быть, это и мечта Бримстоуна, но ее выполнение будет зависеть от другого.
— Веришь, что она придет? — спросил Военачальник.
У Бримстоуна тяжело было на сердце. Ему было неведомо, сможет ли она вообще найти свою дорогу обратно в Эретц; он не готовил ее ни к чему подобному. Он даровал ей человеческую жизнь и старался верить, что она, возможно, избежит судьбы оставшегося ее народа, бесконечной войны, разрушенного мира. И теперь он все это взгромоздит ей на плечи? Повесит тяжелые-претяжелые ключи от разрушенного королевства. Груз всех этих душ, которые сковывают не хуже кандалов, но он знал, она бы не стала увиливать.
— Да, — сказал он. — Она придет.
— Ну, и ладненько. Ты очень метко дал ей имя, старый дуралей. «Надежда», да.
Поэтому они оставили за своим народом выбор, а выбор был прост. Все знали, что последует; их жизни сводились бы к тому, что все сбивались бы в одну толпу и голодали (и огонь, всегда огонь), пока бы они ждали конца. И вот их погибель была уже здесь, и... как мечта, эта надежда явилась к ним; она пришла вместе с шепотом в их темные жилища, в их руины, к их беженцам. Они познали, все они, опустошение пробуждения от обнадеживающей мечты в темноту и вонь осады. Надежда была миражом, и никто вот так просто на нее не полагался. Но эта была настоящей. Здесь не было обещания, только надежда: на то, что они снова могли бы жить, что их души и души их детей, возможно, обретут мир, в стазисе до того дня, пока...
А это была другого рода надежда, тяжелая ноша, что Бримстоун повесил на шею Кару, и более того, задача, на будущее: что когда-нибудь может наступить такой день для всех, мир для всех очнется. Бримстоун с Военачальником не могли его достичь, со всем своим ополчением, но Мадригал и ангел, которого она любила, разделяли одну прекрасную мечту, и, хотя, мечта умерла на плахе, Бримстоун знал, что чья-то смерть не конец, несмотря на то, что так кажется.
Во имя тысячи народов объединенных племен, спустившихся по винтовой лестнице. Которая будет разрушена, и у которых не будет выхода. Они постигали собор, и это было великолепно. Они прижимались плотнее друг к другу и пели гимн. Возможно, собор никогда не будет большим, чем просто их могила, но это был простой выбор.
Тяжкий выбор и истинный героизм был за теми, кто решился остаться наверху, потому как все уйти не могли. Если бы все химеры исчезли из Лораменди, серафимы бы заподозрили, что химеры что-то затеяли и начали бы копать. Так что некоторые горожане (многие) вынуждены были остаться и дать возможность ангелам насладиться победой. Они должны были дать ангелам насладиться победой, ценой своих страданий и трупов, которыми были вскормлены серафимовы костры. Остались старики и большинство тех, кто потерял своих детей, чрезмерное количество разоренных беженцев, которые и без того вынесли так много, но смогли отдать еще кое-что, последнее, что у них осталось — себя.
Они принесли себя в жертву, ради лучших времен в жизни остальных, о чем эти остальные еще не догадываются.
Вот чем Кару вооружилась этим утром, а также в буквальном смысле: ее бедра украшали клинки-полумесяцы и маленький нож был заткнут в ботинок. С Иссой на своей стороне, она направилась во двор, где собрались Волк и его солдаты, уже проснувшиеся и переодетые в чистое; свежий воздух, несколько команд, вооруженных и готовых к полету. Команда Амзаллага была единственной, к чьим солдатам у Кару лежала душа. Как бы ей хотелось сообщить свои новости им наедине, и остальным тоже, тем, кого бы они сильнее всего тронули.
У Амзаллага были дети. Или они у него были до того, как пал Лораменди.

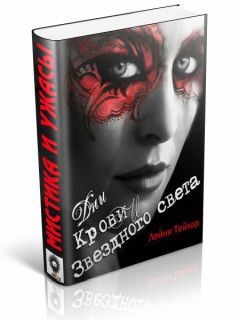

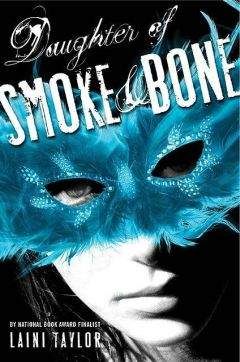
![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)
