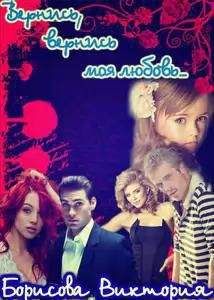Говаривали, будто в этой гиблой стороне даже никогда не находили осененных Даром. Уж со времен Гнилого Мора — точно. О ту пору, правда, земли эти будто бы назывались Путеводье. Но, может, то просто болтают. Кто теперь вспомнит, что творилось столько сотен лет назад?
Ныне же здесь ощетинились ерником болотистые леса, разлились черные бочаги, а кое-где и вовсе таились коварные трясины. Туманы же висели чуть не праздника Первого льда. Но люди жили, поскольку зыбуны были богаты железом. Правда и Ходящих гнездилось — тьма. Потому-то давнее Путеводье и стали называть в народе Встрешниковыми Хлябями. Новое назвище прижилось. Уж если Встрешник где и бродил, то всяко тут.
Тамир возился, крутясь с боку на бок. Он уже давно был неприхотлив в пути, не жалуясь, спал на земле, и даже не тосковал по уютному сеннику. Мог обходиться одними сухарями и водой, забывая про горячую похлебку. Мог целые дни проводить в седле, не сетуя, не требуя отдыха. Такова будет его жизнь, и парень с этой мыслью давно свыкся.
Но сегодня отчего-то заснуть никак не мог. Все чудилось, будто вокруг обережного круга бродият смутные тени, будто чей-то сторонний взгляд скользит по месту ночлега колдунов, будто доносит ветер негромкое бормотание… Тамир давно уже не боялся Ходящих. Но ныне его злило то, что кто-то шастает вокруг, мешая спать. Шуршит, свистит, тихонько вздыхает.
Поэтому осторожно, чтобы не разбудить Велеша (сон мага — чуткий), послушник выскользнул из кожаного шатерка, в котором некроманты спали, спасаясь от тумана и падающих с деревьев капель.
За кожаным пологом стояла непроглядная тьма, какая бывает только осенью и весной, когда обнаженные земля и деревья черны от влаги. Колдун прислушался, собираясь раз и навсегда упокоить того, кто слонялся во мраке, мешая ему отдыхать.
Воздух пах землей и мокрой хвоей. Тлели в кострище затейливо сложенные ветки, вспыхивая багровым и оранжевым.
— Айщ… — негромко приказал колдун на языке ушедших.
Это значило только одно: «Явись».
Темнота напротив дрогнула. Тамир пригляделся. Всего на расстоянии вытянутой руки от него стоял парень. Невысокий, худой. Больше разглядеть не получалось.
— Что тебе? — не размыкая губ, спросил Тамир. — Чего бродишь?
— Я тебе весть принес… — отозвался в голове бесплотный, лишенный всякого выражения, голос. — Скорбную весть. О смерти и раздоре. Дозволь молвить.
Колдун с замиранием сердца разрешил:
— Молви.
— Дозволь показать? Тут недалече… — прошелестел навий и качнулся куда-то в сторону болотины.
Тамир вздохнул.
— Ну идем…
Колдун шагнул из обережного круга и в этот миг бестелесый собеседник стремительно качнулся в его сторону. Кожу парня будто пронзили сотни ледяных игл, словно швырнул кто-то в лицо сыпучего снега. Холод пробежал по жилам, поднимая на теле волоски, заставляя коченеть пальцы, тукнулся в груди и разлетелся, брызнул во все стороны ледяными осколками. Темный лес перевернулся, голова у послушника Цитадели закружилась, к горлу подступила тошнота, а на затылок словно обрушился ледяной кулак.
* * *
Страх дрожал в животе, царапался, как полевая мышь. Гортань конвульсивно сжималась, и влажный воздух таяльника царапал нёбо. Маг обходил деревню посолонь, оступаясь в просевших сугробах, покрывшихся к ночи ледяной коркой.
Волынец очерчивал поселение обережным кругом.
Он был напуган и в груди все мелко-мелко дрожало.
Когда надысь в Цитадель прилетела сорока, никто не придал этому особенного значения. Осень, зима и весна в этом году выдались гнилые — теплые, влажные, пасмурные. Люди часто болели и часто же присылали за магами, когда сил ведунов, шептунов и знахарей для лечения хворей становилось мало. В этот раз сорока прилетела от Вадимичей, люди жаловались на немочь, о чем говорила привязанная к сорочьей лапке коричневая шерстяная нить. Коричневая — болезнь, черная — убийство, серая — смерть.
Глава поручил Вадимичей Волынцу. Он только-только прошел обучение и, пускай, магом был слабоватым да (чего уж душой кривить) ленивым, для такого немудреного дела вполне годился. Парень, скрепя сердце, поехал, кляня в душе проклятых селян, что взялись болеть не к сроку. Жена у Волынца ходила тяжелая и должна была со дня на день разрешиться от бремени. Беременность бабе далась трудно, и муж подозревал, что дитя лежит в утробе ножками вниз. Как бы не пришлось тянуть его в этот мир силою… Одним словом, не хотелось ему ехать в порубежную весь. Муторно было на душе и тревожно. А Сияна, ставшая плаксивой и капризной, и вовсе всю ночь проревала с тоски.
К Вадимичам маг приехал под вечер, когда серые сумерки опустились на мокрый лес.
На подъезде к деревне лошадь испуганно захрапела, взялась осаживаться под седоком, заржала, заартачилась. Парень плюнул и спешился. Деревня стояла на крутом берегу речки Спешка. В этом самом месте река делалась вертлявой, а дно ее становилось неровным и обнажало острые зубы камней. Тут начинались волоки. Собственно, именно волоками да проходящим мимо торговым путем и жили Вадимичи. От леса весь огораживал крепкий тын, а со стороны берега стояла она, вольно открытая всем ветрам.
Даже отсюда чувствовался запах воды. Спешка нынешней зимой не замерзла и разбухла, растеклась и поднялась от переполнивших ее вод. Дожди, проклятые, делали свое дело. Видано ли, чтобы в снежнике с неба лилась вода? Или в студеннике? Да никто такого припомнить не может. А гляди ж ты…
Только вьюжник подарил земле недолгое отдохновение — ударили легкие заморозки, а потом повалил снег… Сугробы выросли великие, будто все сбереженное зимой за два месяца она вывалила одним духом в три дня и три ночи. Можно было уже наладить и санный путь, и лыжный. Однако через несколько седмиц наступил голодник, который принес с собой серые тучи, влажное тепло и мелкие, как просеянные в сито, дожди. К ночи землю слегка прихватывало морозцем, и иной день все же сыпался снег, а потом опять морось, морось, морось.
Досадуя про себя на дурную погоду, на упрямую лошадь, на промозглый озноб и на Вадимовичей, которым загорелось хворать, дальше маг отправился пешком.
К удивлению деревня встретила его темнотой и безлюдием, только где-то на одном из дворов глухо выла собака. Под ложечкой засосало. Путник шагнул вперед, с удивлением понимая, что поселение будто вымерло — не слышно людей, не видно дымов над крышами, только жалуется тоскливо и бесприютно пес.
— Эй… — негромко спросил Волынец, озираясь.
Во дворе гостиного дома стояли распряженные розвальни, груженые поклажей.
— Где все? — позвал новоприбывший громче. — Люди?