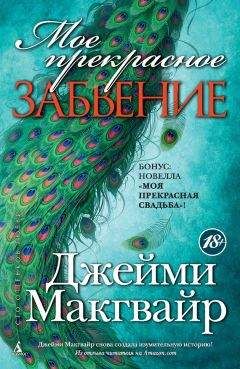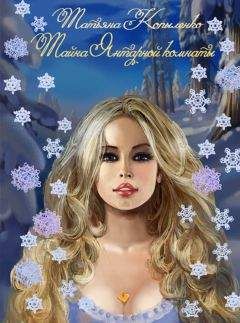Озадаченная его замечанием, я все же обрадовалась, что между нами есть что-то общее.
— Вы правы. Моя мать умерла, давая мне жизнь. А ваш отец? — спросила я то, что обычно спрашивают в таких случаях.
В ответ раздался долгий тихий стон. Потом:
— Я почти не знаю его. Он… он…
И он замолчал, онемев на полуслове, заблудившись в чаще собственных мыслей. Я, наверно, тоже перестала для него существовать, потому что он, похоже, не сознавал моего присутствия и не слышал обращенных к нему слов. Я чувствовала, как закипает в нем ярость оттого, что не удается настичь ускользающие слова; это было сражение с самим собой. Наконец он резко остановился и, зарычав, начал бить себя по лбу. Я уговаривала его не мучиться так, но все было напрасно. Внезапно он без всяких объяснений свернул с дороги и полез на крутой откос, оставив меня внизу. Я звала его, но он будто не слышал меня. Через мгновение он исчез в сосновом лесу. Я не знала, придет ли он еще.
Я смотрела ему вслед, и тут в голове у меня мелькнуло слово «покинул»! Я знала, именно это он хотел сказать: «Покинул».
Какое чувство, кроме обиды, мог вызвать у меня подобный поступок? Каким бы этот человек, возможно, ни был начитанным, он явно не имел никакого представления об элементарных приличиях. И все же моя досада быстро сменилась состраданием. Я не сомневалась, что столь грубое поведение было результатом пережитого им несчастья. Но как ни оскорбительна была его невежливость, куда больше я боялась, что он не вернется. Но он снова пришел, на другой день, и даже не извинился за вчерашнее. Первое, что он сказал, было «покинул» — слово, которое он не мог найти накануне.
— Мой отец покинул меня вскоре после того, как я появился на свет, — выкрикнул он.
— Тогда мы оба круглые сироты, — сказала я, надеясь продолжить вчерашнюю тему. — Я тоже ничего не знаю о своем отце. Он отдал меня цыганке, чтобы та вырастила меня. Я видела его только один раз. Он ускакал на войну и не вернулся.
— А я позже нашел своего.
— Да? Тогда вы счастливец.
— Нет, не счастливец. Он не признает меня!
— Простите!
— Не стоит извиняться. Мы терпеть друг друга не могли. Мой отец…
Чудовище.
Он с плохо скрытой злобой стиснул и разжал изуродованные кулаки. В такие моменты он пугал меня; способен ли он ударить в слепой ярости, как взбешенный зверь?
— Ведь это так очевидно, — сказала я, стараясь успокоить его, — что ребенок должен чувствовать любовь отца. Ни вы, ни я не изведали такого простого счастья.
— Так лучше. Это делает человека сильным. Я предпочитаю быть независимым и не нуждаться в чьей-то любви.
— Все же я считаю, что мне повезло. Я нашла других, кто любит меня и заботится обо мне.
— Потому что вы так прекрасны! В этом я вам завидую. Как я выгляжу, вы сами видите. Такой, как я, никому не нужен.
— Но это несправедливо. Тут нет вашей вины. Внешность ничего не говорит о характере.
— Вы уверены?
— Конечно. Существует красота души.
— Ха! Ей не сохраниться, когда уродство столь отвратительно. Люди отворачиваются от тебя, не замечают твоей красоты, и она умирает. И тогда остается лишь уродство, на всю жизнь. Оно отравляет самую твою суть. Мы становимся теми, кого все боятся и презирают.
— Нет людей настолько уродливых. Вы не таковы.
— Я был создан таким ужасным. Не следовало оставлять мне жизнь. И мой создатель не намеревался этого делать. Я…
Ошибка.
— …ошибка.
— Бог не допускает ошибок.
— Мой бог допустил! Он создал существо, которое ужасает взор и превращает всех людей в моих врагов.
Я остановилась посреди дороги. День шел к концу, и со снежных вершин потянуло холодом. Мы стояли под остатками ясеня, расколотого молнией; из почерневшей верхушки торчали два сука, как рога дьявола, дабы устрашать преступные души. На одном сидела Алу, как когда-то. Мы много раз проходили этим путем; сожженное дерево служило дальней точкой наших прогулок — здесь, откуда еще виднелись затененные деревьями северные ворота поместья, мы, не сговариваясь, поворачивали обратно. Адам, как обычно, и теперь прикрывал лицо платком.
— Покажите! — сказала я, откинув назад голову и глядя на его лицо высоко надо мной, — Снимите платок. Мой взор не ужаснется.
— Ужаснется… если только вы не больше человека.
— Нет! Я была бы недостойна называться человеком, окажись я настолько жестокой, что позволила бы подобному пустяку отвратить меня от вас. Неужели вам никогда не встречался кто-нибудь с доброй душой?
— Был один человек, который отнесся ко мне как к другу.
— Вот видите!
— Он был слепым. Слепой посмотрел мне в лицо и назвал другом.
— Но я не слепа. Ну же, Адам! Уберите этот платок. Вам он, может, нужен, но мне это не нужно.
Он с умоляющим видом помотал головой, но не сопротивлялся, когда я потянулась, чтобы сорвать платок с его лица.
Я собрала все свои силы на тот случай, если мне вдруг станет плохо, и была готова ничем не показать отвращения, ибо знала, он внимательно следит за мной. Так что, когда платок отлетел в сторону, не я, а он вздрогнул от внезапного испуга; его глаза под тяжелыми веками зажмурились, как у кошки, когда та пугается, что ее ударят. Лицо под платком оказалось, как я и ожидала, невообразимо ужасным. Достаточно соразмерное, оно напоминало мертвую голову: щеки провалились, провал безгубого рта раскрывался по-рыбьи, обнажая желтые зубы. Сквозь неровную, словно их выдирали горстями, стерню черных волос виднелись сочащиеся болячки, покрывавшие массивный череп. Оттого что нос был небольшим и тонким, остальные части лица казались еще страшней. Но самым необыкновенным было то, что туго натянутая кожа была прочерчена — я заметила это на его лбу, щеках и горле — узором тонких линий: это были аккуратнейшие швы, будто лицо целиком было кропотливо сшито из плоти разного цвета и фактуры.
Если я не отшатнулась с отвращением, то лишь потому, что меня поразило нечто невероятное. Это лицо… Оно было знакомо мне. Я не могла сказать, откуда я его знаю, потому что несомненно не встречала Адама прежде. И все же… Наконец я изумленно воскликнула, чтобы Адам не подумал, что его вид лишил меня дара речи:
— О господи, Адам! Какая же беда могла случиться с тобой, причинив такие страдания?
Его голос, когда он ответил, прозвучал почти нежно.
— Бедная Элизабет! Полагаю, с вас достаточно. Если не пожелаете больше видеть меня, не ждите меня завтра.
Он зашагал прочь.
О, пожалуйста. О… пожалуйста!