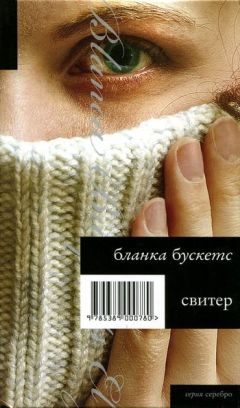— Имеет смысл спрашивать? — криво усмехаюсь и еле заставляю себя перевести взгляд на Глеба, выглядящего на удивление хладнокровным.
— Поехали. По пути расскажу, — внезапно отзывается он сразу идёт на выход, раздражающе маячит около лифта, то и дело мелькая в узкой щели приоткрытой входной двери.
А Кирилл стоит у меня за спиной, пока я торопливо обуваюсь и накидываю пиджак, до смешного много раз подряд не сумев попасть в рукав, а потом подаётся ближе, склоняется и целует меня в макушку, пуская по телу волны страха и предательской дрожи.
Если это прощание, то самое худшее из возможных.
Наверное, паника слишком отчётливо проступает на моём лице: расширяет зрачки до необъятных чёрных дыр, стягивает губы сухой и жёсткой коркой, кружит голову и пытается вытянуть срывающееся от слишком быстрого темпа ударов сердце прямо через рот, да только оно так и застревает среди горла и противно пульсирует там. Он отрицательно качает головой, вскользь проводит костяшками пальцев по щеке, предпринимая запоздалую попытку успокоить меня.
— До вечера, Ма-шень-ка, — шепчет тихо и нежно, и я срываюсь с места и выскакиваю в общий холл, почти врезаюсь в Глеба и слишком громко хлопаю за собой дверью. Будь координация движений чуть получше — ещё бы ударила его по этой проклятой ненавистно-ласковой прохладной ладони, прикосновение которой до сих пор мятным холодком ощущаю от скулы до подбородка.
Можно сколько угодно храбриться и терпеть, сцепив зубы, но у меня на самом деле нет достаточно сил, чтобы стойко выносить всё это. Ждать, какое именно слово станет последним. Гадать, сколько ещё времени у нас осталось. Верить в чудо, которое вряд ли случится.
Даже изображать спокойствие больше не выходит.
Ему так проще. Держать всё под своим контролем, обрубать попавшие в капкан конечности без сомнений и лишних сожалений, брать по максимуму, пока дают. А мне… Мне, наверное, никак не проще. Всё одинаково беспросветно и гнетуще, словно я давно уже существую в аду, из круга в круг только меняющем свои очертания и формы, чтобы первые несколько мгновений мне могло показаться, будто удалось наконец вырваться оттуда.
Ты сможешь это пережить, Маша. Сможешь, обязательно сможешь.
Только вот ради чего?
— Давай на заднее сидение, там стёкла затонированы, — указывает Глеб и тут же распахивает передо мной дверцу своей машины аккурат за местом водителя. — И ничего не трогай и… не спрашивай.
Его ухмылку я не вижу, но чувствую затылком, волоски на котором прилипли к коже, до сих пор влажной от выступившей ещё в квартире испарины. Хочется огрызнуться, что в последние полгода моей жизни изображать статую стало вполне привычным делом, но творящийся внутри машины хаос быстро отвлекает и сбивает с прежних мыслей.
Почти половина заднего сидения занята детским автокреслом, напоминающим какую-то огромную космическую капсулу, в которой валяется несколько игрушек кричаще-ярких цветов и нежно-голубой вязаный плед. А рядом — небрежно брошенная полицейская форма, на плотной тёмно-синей ткани которой переливаются под подсветкой подземной парковки уже присохшие тёмные пятна и мелкие брызги.
Я понимаю их происхождение ещё до того, как мы выезжаем на улицу, под настырные, обманчиво-яркие, но почти не греющие лучи майского солнца. Несмотря на специфичный, сладковатый запах крови, ударивший по мне и чуть не вывернувший все мои органы наизнанку в еле сдержанном рвотном позыве, взгляд всё равно возвращается обратно к форме, на свету без труда различает красные точки на воротничке белоснежной рубашки.
— Кинь её сюда, — Глеб указывает ладонью на пассажирское сидение, не переставая бессовестно разглядывать моё смятение в зеркало заднего вида.
— Мне… не мешает, — решительно проглатываю вставший в горле горький ком и отворачиваюсь, сосредоточенно вглядываюсь в окно, но не замечаю вообще ничего, даже не осознавая толком, мимо чего мы сейчас проезжаем: то ли набережной, то ли широкого бульвара, то ли нагромождения разнотипных серых домов.
— Тяжёлая выдалась ночь, — хмыкает он и, сделав небольшую паузу, добавляет: — Видишь, я совсем не лукавил, когда говорил о том, что полгода работы твоей нянькой стали самым спокойным периодом в моей жизни с тех пор, как я устроился к Войцеховским.
Мне же совсем не хочется иронизировать насчёт всего происходящего. Выдернуть бы просто блок питания из розетки, дать ему остыть и отдохнуть, а потом запустить с новыми, усовершенствованными настройками, в числе которых будет моя любимая прежде опция «ничего не чувствовать».
«Ты — всего лишь человек, а не вычислительная машина».
Как же жаль, как безумно жаль, что я действительно оказалась всего лишь человеком.
— Я нашёл клинику, в которой лежала Ксюша, — наконец переходит к делу Измайлов и снова ловит мой взгляд в зеркале заднего вида, но ведёт себя странно, даже не попытавшись ухмыльнуться тому, как ловко привлёк моё внимание. Слишком тактично. До противного понимающе, отчего меня начинает тошнить с новой силой. — Крупный и очень дорогой частный центр. Только записи с камер в тот день, когда её выписывали, оттуда давно изъяли. А из основного хранилища компаний Байрамова и Войцеховского и вовсе удалили. Так что мы до сих пор можем только строить догадки, кто же был тем загадочным мужчиной.
Именно такой итог кажется мне вполне закономерным и ожидаемым. Предсказуемым. И, казалось, Глеб с Кириллом тоже не питали особенных иллюзий на счёт того, что всё могло быть так просто. Но тогда отчего же я вижу эти раздражающие, неимоверно злящие, исподтишка подкармливающие мою тревогу учтиво-грустные мины на их лицах?
— Что с ней было?
— Замершая беременность, — всё в Глебе, от сдержанной мимики до особенно мягкого тембра низкого голоса, повторяет заезженное столетиями «я так сожалею». Словно меня, похоронившую практически всю свою семью, сможет действительно больно задеть новость и неудачной беременности своей давно мёртвой сестры. — Я смотрел её карту, там много разных анализов, все необходимые и даже дополнительные, по рекомендациям врачей. Как я понял, она была всерьёз настроена рожать, но… там сделано несколько узи, подтверждающих, что сердце не бьётся и беременность не развивается. Вроде как такое случается достаточно часто.
Киваю ему молча, стараясь как-то свыкнуться с полученной информацией. Мне она ничего не сказала. Может, собиралась сказать позже. Может, вообще не хотела делиться своим счастьем — зато позвонила поделиться горем.
Мы обе были друг другу самыми худшими сёстрами, Ксюша. И в радости, и в печали. Чужие люди с общей кровью и одинаковой фамилией.
— Нельзя сказать с полной уверенностью, но, похоже, это и правда просто случайность, — продолжает он, выдержав положенные пару минут тишины, — по крайней мере никаких странностей, которые могли бы указывать на то, что это подстроено, я не нашёл. Было согласие даже на генетический анализ эмбриона, он никаких нарушений не выявил.
— Понятно, — киваю сдержанно, но внутри трясётся яростно громкое, злобное, рычащее «мне плевать!», бешеным псом нарезающее круги в мыслях и скрипящее тяжёлой, прочной цепью моей выдержки.
Мне плевать. Мне не интересно. Я не хочу знать никаких подробностей. Не хотела слышать, вникать, переживать за неё тогда и тем более не вижу смысла начинать теперь.
Это была её жизнь, только её. Она сама решала, как ей распорядиться. Она сама… сама.
Непонятно только, отчего же мне тогда так погано и больно. Почему пальцы крепче сжимают ремешок лежащей на коленях сумки, а зубы кусают, грызут щёку изнутри, беспощадно впиваясь в уже кровоточащие ранки.
Меня не должно это касаться. Не должно. Сказать откровенно, Ксюша наверняка была бы крайне ветреной, бестолковой и отвратительной матерью.
А сама-то ты, Маша? Какой можешь быть ты?
Еле высиживаю на месте до конца поездки и отвешиваю себе один за другим мысленные оплеухи за желание выскочить из машины прямо на ходу, стоит лишь вдалеке показаться знакомой стеклянной высотке. Ощущения такие, словно меня методично, усердно и медленно выклёвывают изнутри сотни маленьких, милых птичек, вонзающих свои острые клювики в содрогающиеся органы. И от этого хочется забиться в какой-нибудь угол, скрести по своей коже, пытаясь отогнать, разогнать эту плотоядную стаю, а ещё смеяться долго и громко, — чтобы высмеять наружу всё отвращение от своих гадких, циничных рассуждений.