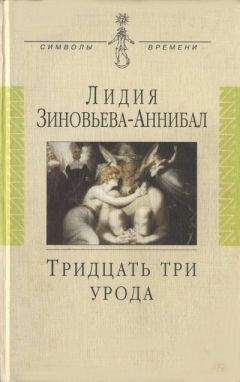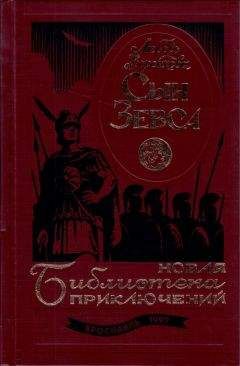«Познай самого себя!» Вот кладбище, дьявольская арена дьявольской жизни:
«Опять была пасмурная погода. Ветер налетал порывами и нес по улицам пыльные вихри. Близился вечер, и все освещено было просеянным сквозь облачный туман, печальным, как бы не солнечным светом. Тоскою веяло затишье на улицах, и казалось, что ни к чему возникли эти жалкие здания, безнадежно обветшалые, робко намекающие на таящуюся в их стенах нищую и скучную жизнь. Люди попадались, — и шли они медленно, словно ничто ни к чему их не побуждало, словно едва одолевали они клонящую их к успокоению дремоту. Только дети, вечные, неустанные сосуды Божьей радости над землею, были живы, и бежали, и играли, — но увы, и на них налегала косность, и какое-то безликое и незримое чудовище, угнездясь за их плечами, заглядывало порою глазами, полными угроз, на их внезапно тупеющие лица.
Среди этого томления на улицах и в домах, под этим отчуждением с неба, по нечистой и бессильной земле, шел Передонов и томился неясными страхами, и не было для него утешения в возвышенном и отрады в земном, — потому что и теперь, как всегда, смотрел он на мир мертвенными глазами, как демон, томящийся в мрачном одиночестве страхом и тоскою».
И кажется, что в мертвом городе каждый обыватель построил из души и тела своего тюрьму своему духу; наподобие того, как построил и оградил от мира свой дом сологубовский трусливый, и злой, и сынолюбивый прокурор: «Этот дом имел сердитый, злой вид Высокая крыша хмуро спускалась над окнами, пригнетенными к земле… Ворота, громадные и тяжелые, выше самого дома, как бы приспособленные к отражению вражеских нападений, постоянно были на запоре. За ними гремела цепь и глухим басом лаяла собака на каждого прохожего».
В отъединенной душе поселяется дьявол. И дьявол — хозяин этого города и отъединившихся душ его людей. Но дьявол явился художнику в позорнейшей своей личине мелкого беса. И словно вонзается в сердце зуб, и гложет сердце мышиный зуб тоски.
Угрюмый, мрачно-суеверный, грубый и придирчивый, сластолюбивый и сладострастный, упрямый, жалко-скудословный, подозрительный, не осмысливающий шутки, улыбаться не умеющий, с редким, деревянным, злорадным хохотом, жадный и неугомонный, честолюбивый, с садической мечтой о сечении и потайною, но постоянною дрожью смертного страха, — таков Передонов, чье сознание было «растлевающим и умерщвляющим аппаратом. Все доходящее до его сознания претворялось в мерзость и грязь В предметах ему бросались в глаза неисправности и радовали его. Когда он проходил мимо прямо стоящего и чистого столба, ему хотелось покривить его или испакостить».
С такими чувствованиями и подвигами скитается осторожный Передонов — мертвый и злой учитель гимназии — по городу, и глупо и злокозненно подготовляет себе пролазный путь к инспекторству, и сам, ослепленный суетливою подозрительностью, не видит сетей, грубым подлогом грубосотканных для его уловления похотливою, скупою и лукавою любовницей.
Дерзкий реализм Сологуба в изображении Передонова и его среды не боится того сгущения, наложения краски (как на картинах Сегантини{269}), обращающего текучую живопись в почти скульптурно-законченный рельеф. Ведь реализм истинного искусства выше цельною, статическою, скульптурною правдой, нежели реализм самой жизни, всегда текучей, становящейся, теряющейся в перспективах пройденного и предстоящего.
И такова сила этого истинного реализма, что зрение наше, изощряясь до последнего напряжения, начинает странно и нереалистично двоить реальный мир. Он тот и не тот, каким мы его знаем. Мир Передонова — густой, тяжелый, существенный — есть, и его нет: он слишком тяжек, густ и существен, чтобы воистину существовать. Зло и кладбище утверждаются, самодовлеют, неискоренимы и самобытны; но вместе с тем слишком несомненно в своей бесстыдности тлеет и бродит гнилая кровь мира, чтобы могла вместить ее истинная алая жизнь!
Острою сталью в зрачке сумеречной птицы мелькнуло разрешение — Смерть. Но что смерть — жизнь ли? Или жизнь — смерть? Перед слишком изощрившимся взглядом двоится жизнь смертью и смерть жизнью.
И вот является насмешливая мысль. Шествует прогресс, и человек — его продукт. Продукт выучки, результат толчков скрещивающихся аппетитов, они же вырабатывают из отдельных живых личностей мертвое — свое среднее, свое удобное. Отлагается на первой природе вторая природа, и вторая застывает крепче первой — точь-в-точь как цемент стал крепче камней, им обмазанных и скрепленных. Так строится здание общественности, и важен ли камень, когда вся сила в цементе?
Но Передонов, Передонов! Передонов — мелкий бес! — и он в цементе уляжется безвредно? И он послужит на постройку общественного благополучия, обмазанный со всех сторон, стиснутый, связанный, обезвреженный бессилием вредить? И если так, не содрогнется ли сердце в груди будущего гражданина будущих сотов, где мед уже не значит и силен лишь воск? Не содрогнется ли до судорожной рвоты? И не попросит ли свободы кладбищу и злу, лучше уже свободы — только бы знать, где мед и где нечистый сироп, которым обманывать станет Пчеловод будущего, и где пустая бесова ячейка. Ведь и сам Пчеловод уже не разберет, и… познай самого себя, человечество! И познаешь в себе кладбище и зловонного мертвеца, дьяволом оживленного, по земле мелким бесом притаптывающего… Познай и отвергни себя!
Были стены — и они еще стоят местами на земле — циклопической кладки. Их клали из мощных глыб, неотесанных, вольно примыкающих и в цементной скрепке не нуждающихся. Не так ли сложится анархия будущего? И, быть может, раздавит такая глыбная мощь духа полый гроб Передонова — и вылетит мелкий бес.
Вот бродячие впечатления и домыслы, навеваемые романом, еще, однако, не оконченным. Но он и не принадлежит к книгам, которые жадно и без вдумчивости перелистываешь, спеша к разрешающему концу. Его читаешь с бережной медлительностью, перечитывая, все забывая, извне подхваченный волною тончайшего, как кружевная пена, и меткого, как… имманентная правда жизни, — искусства.
А. Ремизов{270}. «Пруд», роман
Роман, если начертить самый скелет фабулы, до сих пор как будто чисто социологический. Но не в том ли достоинство его, что в социологическом его теле живет совсем иная душа? Глубокая душа вечных антиномий.
Человеческий дух низвергнут в подполье, и в позоре похотных падений, в осквернительных муках бесславного тела, в тоске смертельной роковых, несмыкаемых разъединенностей — плачет, клянет и вспоминает сильные крылья, звездную высоту, мирообъятную цельность.