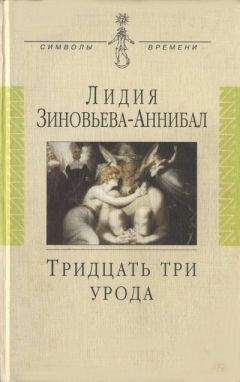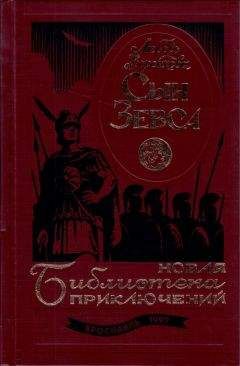— Ах, Боже мой. Вот идет Тарбут. Нехорошо, если он увидит нас вместе. Пойдемте отсюда.
Тарбут стоял на пороге. Высокий, печальный, со своей сфинксовой улыбкой на тонких губах, сияя мудрыми глазами.
Поклонился Елене.
Марцианов повлек ее к выходу. На улице назначил ей свидание у себя. Елена должна была к нему прийти через два дня — двадцать седьмого ноября.
Дома встретила ее Людмила, бледная. Торопливо спросила Елену:
— Где ты была?
— Но разве я должна непременно все рассказывать тебе?
— Как? Ты не хочешь?
— Нет, нет, почему же не сказать? Но я, право, не знаю, могу ли я.
— Вот как. Ты не можешь… Так я сама скажу тебе. У тебя было свидание с Марциановым.
Вопросы Людмилы почему-то обижали Елену, и она холодно ответила:
— Может быть.
Тогда лицо Людмилы неожиданно изменилось Оно сделалось беспомощным и наивным, и она заплакала, обхватив колени руками. Ее милое девическое тело дрожало. Она распростерлась на полу, задыхаясь в истерике.
Елена не знала, что делать. Тогда она опустилась на ковер рядом с Людмилой и тоже заплакала, целуя ее маленькие руки.
Потом они помирились.
А двадцать седьмого Елена все-таки была у Марцианова. Он жил в одной комнате на Петербургской стороне. Встретил Елену торжественно и строго.
— Мы погибнем, если не удалимся от мира. Кругом разврат и порок. Пока не раскрылась новая любовь, надо жить в аскетизме.
Голос и глаза Марцианова показались Елене тусклыми. Ей стало скучно. Елена хотела уйти, но Марцианов удержал ее:
— Как? Вы хотите уходить? А наше дело? Прежде всего надо наметать желанных людей. Известно, во имя чего мы собираемся, а что нам делать, покажет жизнь, события…
Марцианов стал перечислять лиц, желанных по его словам.
Елена покорно слушала.
— Ну а Людмила Андреевна? — спросила она, чувствуя, что краснеет.
Марцианов пристально посмотрел ей в глаза.
— Людмила Андреевна — больной и духовно слабый человек, — сказал он внушительно после долгого молчания, — вы знаете, между прочим, что она страдает эпилепсией?
— Нет, не знаю. Но ведь это все равно?
— О, конечно, конечно. Я случайно вспомнил об этом…
— Так как же? — спросила Елена еще раз.
— Нет, пока она не должна быть с нами…
Елена чувствовала, что надо кончить разговор и уйти, но не в силах была это сделать чем-то покорял ее этот Марцианов.
Елена сидела у него два часа и ушла разбитая, как будто исполнила тяжелую работу. На улице вольнее дышалось: только неприятно было вспоминать настойчивые глаза Марцианова.
Когда Елена пришла домой, Людмилы не было. А в первом часу ночи, когда Елена, утомленная, заснула, ее разбудил тихий стук в дверь.
Это вернулась из театра Людмила и пришла к ней: вошла — прекрасная, вся в белом, пахнущая духами…
— Я смотрела «Гамлета», — сказала она, — Боже мой! Как это современно. Как это близко нам… И какая печальная ирония над святыней, над любовью… Какая боль! И потом я вообще думаю: чем оправдать все муки, все муки, все эти пытки? Ах, я говорю нескладно, но ты поймешь, Елена, ты поймешь…
Людмила приникла к Елене. Елена ласкала волосы Людмилы. И потом долго они целовали друг друга. И плакали. И смеялись.
VII
На другой день Елена решила пойти к Клавдии. Она писала, что живет теперь вместе с Андрюшиным на Надеждинской. Погода была весенняя — оттепель, талый побуревший снег, извозчики на колесах…
Елена шла по Казанской; встретила наряд казаков, но не сообразила, в чем дело. А когда вышла на Невский, было уже поздно: поперек Казанской поставили городовых.
Прохожие торопливо шли со смущенными лицами…
Около собора чернела толпа, и было ясно, что творится неладное. Когда Елена переходила через улицу, околоточный, с красным испуганным лицом, крикнул ей, должно быть, худо соображая:
— Расходитесь, господа. Ведь нельзя же так. Расходитесь…
Но свернуть было некуда: по сторонам стояла полиция. Пришлось идти по Невскому.
Елену обгоняли многие: мелькнул господин в цилиндре, толкнулся в табачный магазин, но захлопнули перед ним дверь; барыня, со сбившейся шляпой, нескладно металась около полицией запертых ворот, мальчишки пробежали со свистом; кто-то пронзительно крикнул:
— Конные полицейские!
Елена оглянулась Вдоль улицы, по мостовой, побежала толпа: алело красное пятно; нестройно что-то запевали.
Елена поняла, что не успеет скрыться, толпа догонит ее. Прижалась Елена к магазинной решетке.
Оглянулась за толпою скакали полицейские; Елена мерила глазами расстояние от ближайшего; уже различала тяжелую лошадь; видела широкий взмах руки, влажную лошадиную морду с красными глазами…
Уже не пели; уже толпа бежала рассеянная; красное валялось в грязном снегу, человек десять, окруженные, метались растерянно; слышала Елена, как дико закричала упавшая, должно быть, курсистка.
Кто-то в калитку толкнул Елену.
Под воротами стояло человек десять булочники в белых колпаках, выскочившие из пекарни; благообразный купец в енотовой шубе, тут же плакала дама, потерявшая девочку; ее утешал господин с окровавленной рукой, — пальто его было странно разорвано, должно быть, нагайкой.
Благообразный купец объяснял пекарям:
— Ни в одном государстве беспорядки не дозволяются. В городе Париже, хотя там и бесцарево управление, однако лупят анархистов за мое почтение.
Молоденький булочник дразнил купца:
— А ежели, енотовая шуба, да тебя, да тебя?
— Пеки калачи да помалкивай, пока я тебя господину городовому не представил.
— А ежели, енотовая шуба, да тебя, да тебя?
Пекарь постарше вмешался в разговор, ища у всех сочувствия.
— Молчи, Сенька: не видишь разве, господин купец из патриотов будет. Куда уж тебе, Сенька, его учить, коли его и японец не выучил.
Вернулась Елена домой к обеду.
Наступили сумерки; спущены были шторы; горели свечи в канделябрах.
Было уютно, тепло, нетревожно.
А Елена была скучная и злая. С досадой слушала, как Анна Николаевна говорила Людмиле о своем знакомстве с известной теософкой Елизаветой Вильямс.
— Елизавета Вильямс — ханжа, — сказала Елена.
Все посмотрели на нее с изумлением.
А Елена опять повторила:
— Елизавета Вильямс — ханжа.
Отец засмеялся.
— Елена, ты права, — сказал он, — я тоже думаю, что она ханжа. Но я читал ее книги, а ведь ты нет. Ведь не читала?
И он опять засмеялся.
Елене стало стыдно.
После обеда все пошли в гостиную. И Анна Николаевна села за рояль. Она стала играть Бетховена — «Патетическую» сонату…