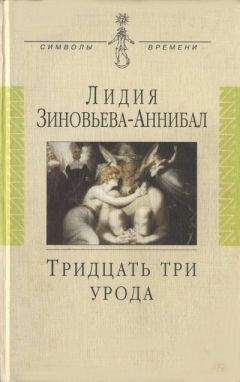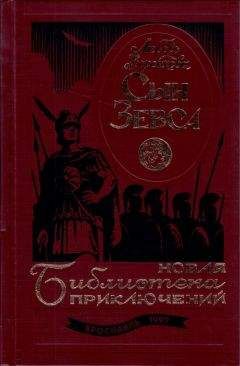Шлеп Мишки об пол, и только толстые зады с короткими пушистыми хвостами закачались, улепетывая вниз по ступенькам. Мама не обиделась.
Мама была кроткая и любила глупых Мишек.
Подвигалось лето. Медвежата росли не по дням, а по часам. Стали больше гораздо средней дворовой собаки. Играли с таксой по-старому, возились со мною по-прежнему и по неизменному обычаю сторожили, где что плохо лежит сладенькое, но и свою овсянку выхлебывали с благодарным порявкиванием.
Однако друзья наши безобидные начинали внушать опасенье приходившим на мызу{13} крестьянам. Негожею затеей казались им медведи — воспитанники помещиков, и опасливо они косились на них, избегали со страхом. Потом я слышала, как брату приходил жаловаться старшина. Просил убрать медведей:
— Не ровен час и насядет на кого, сломает. Или скотину тоже… Все же зверь-то лесной, хоть и на соске воспитывали.
Убрали медведей в каменный сарай. На запоре держали ворота. Мишки ревели тоскливо, просились на волю, на солнышко, к друзьям… Я ходила как потерянная, капризничала, грубила воспитательнице. Плакала…
Собрался семейный совет и лесничий решать последнюю судьбу медвежат. Лето переламывалось на вторую половину. К осени медвежата станут вполне медведями. Воли им давать уж нельзя. В сарае взаперти держать тоже нет смысла. И кормить придется уже мясом.
— Пристрелить? — предложил лесничий.
Я завыла из угла большого, старого дивана, куда забилась незамеченная. Старший брат заколебался:
— Разумно… Это, конечно, разумно… И можно без мучений.
Второй брат, Дикий Охотник, как его прозвали семейные за любовь к одиноким лесным приключениям, не согласился…
— Мы к ним привыкли, мы их растили. На соске вспоены. Рука на них не подымется!
Я выла прерывным воем, прислушиваясь. Сестра прослезилась:
— Мамочка. Придумай!
— В лес выпустить! — сказала мать.
Я прекратила громкий вой и закрыла рот. Все помолчали. Старший брат пожал плечами. Лесничий возразил:
— Все же неловко. Все же дикий зверь: коров ломает.
Я его ненавидела. Мои Мишки не «дикий зверь».
— Неловко! — подтвердил старший брат, но неуверенно.
Сестра глядела на мать умоляющими влажными глазами. Я приготовилась выть. Уже раскрыла рот. Но Дикий Охотник сказал запальчиво:
— Мама права. Так надо сделать. Завести в лес. Мы не имеем права стрелять медвежат.
И мать спешно прибавила:
— Мы их взяли из лесу. Не взяли бы, они все равно там бы теперь бегали.
Старшему брату хотелось согласиться, и он согласился. Лесничий был побежден, и все стали обсуждать, как приняться за освобождение Мишек Решили так посадить их в большие заколоченные ящики и свезти в лес за Чёртово Болото. Это далеко и дико. Свалив в лесу ящики, поотбить гвозди и ускакать. Пока Мишки станут справляться с досками, чтобы вызволиться, далеко уже будет телега. Дороги не найти им ввек. А там, на воле, в дремучем бору они одичают…
Засмеялся Дикий Охотник.
— Потом уже мне не попадайся. Не узнаем друг друга. Застрелю!
Свезли.
Так страшна была минута, когда решалась их судьба, и после отчаянья, такою острою радостью явилась надежда на волю им и жизнь, что я забыла скучать по увезенным товарищам. Не до того уж было. Пронеслось что-то страшное близко над душой, и душа приникла.
Не знаю, сколько дней прошло. Может быть, всего один или два, не больше, и узналась последняя злая весть. Не помню, как узналась, где, в каких словах. Все слова слились в одно слово, в одно чувство, вернее, потому что назвать его словом, обозначить сумела лишь гораздо позднее. Предательство. Кто-то кого-то предал. Какая-то любовь, какое-то радостное детское, нет, проще даже, звериное доверие — было предано… предано.
За Чёртовым Болотом мужики и бабы косили среди леса на поляне. Увидели: вдруг бегут прямо на них из лесу два медведя. Со страху медведями показались. Мужики и бабы испугались и встретили медвежат косами…
Медвежата с любовью к людям бежали, к друзьям на милые голоса, веселились задорно лукавые глазки, переваливались смешно на косых сильных лапах широкие зады. Так я их видела.
Встретили мужики, испугавшись, медвежат косами. Изрубили. Одного еще живого изловили. В царский парк повезли продавать, на царскую охоту. Лапы ему надломят перед охотой, чтобы легче было пристрелить и безопаснее. Другой, изрубленный, истыканный, весь в крови и ничего не понявший, удивившийся, как-то вырвался в лес назад.
Ехал брат, Дикий Охотник, верхом с ружьем за плечами; задумался, как любил. Слышит — стонет кто-то. Как человек… На стон полез в чащу. Лежит Мишка родной и умирает. Взглянул еще глазами на брата. Брат спустил с плеча ружье и впустил ему всю дробь в ухо.
Так кончили жизнь наши Мишки.
Что так именно случилось, помню и знаю, а кто сказал и где — не помню, и не важно. Конечно, Дикий Охотник сказал. Вот лицо матери помню. Верно, когда говорил брат о смерти медвежат. С тех пор именно это лицо мне помнится яснее всего у матери. Такое бледное, и странно подпрыгивает нижняя полная губа. А в глазах ее, таких светлых, больших, — испуг. И вот она встала и покачнулась. И я вскочила. Брат тоже подбежал. Тогда, с дрожащею губою, она сказала тихо, извиняючись:
— Это ничего, Митя. Мне стало немножко жалко наших Мишек. Сейчас я вернусь.
И вышла… Стало очень тихо. Верно, вышли все. Но вдруг я услышала и так нелепо и дословно запомнила тогда мне еще неясные слова. Их произнес, будто близко от меня, карающим голосом старый воспитатель братьев:
— Вот оно к чему приводит, когда человек вмешивается в жизнь природы.
И ответила ему рассудительная гувернантка:
— А что же, прикажете диких зверей не истреблять, чтобы они ломали крестьянский скот?
Я хотела плакать. Ничего не понимала. Хотела плакать, но не могла.
Помню — уже темно. Уже я в детской, в постели, и не сплю, и все слез нет. Скрипит тихонько железным скрипом на крыше ветрельник. На сердце упала непосильная тяжесть. Зло совершилось. Великая несправедливость. Были обмануты доверие и любовь. Предательство было совершено. Предательство любви и доверия. И… никто не виноват.
Никто не виноват. Ночью ярче в тишине, под железный скрип флюгера, обозначилась мысль, почти что словами. Не плакалось. Слишком страшно придавил несказанный вопрос мое сердце. Не по силам придавил мое сердце.
Я сползла с постели. В темноте щупала руками впереди себя. Пробиралась длинным коридором к матери.
Мать скажет. Мать ответит. Мать, мать… Мама должна все знать. Мама может от всею спасти.
— Мама, мама! Зачем Бог позволил?