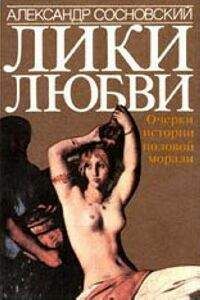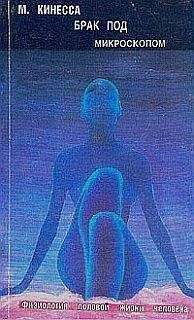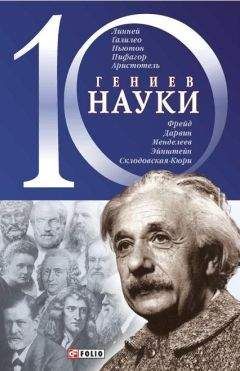Явление это общее, например, для всего Кавказа, однако в закавказской прессе вы не встретите крика негодования по этому поводу, она довольно равнодушно отмечает: «Такого-то числа, такой-то обыватель совершил гнусное насилие над мальчиком стольких-то лет». И только не ждите статьи или фельетона по поводу этого гнусного насилия, их не будет, ибо это «гнусное насилие» есть обычное явление в общественной жизни, к нему все присмотрелись, всем оно надоело и никого не интересует. Я говорю это не в упрек кавказской прессе, — нельзя негодовать ежедневно и без конца по поводу одного и того же явления, как бы оно возмутительно не было. В конце концов или негодование уляжется, или негодующий не будет иметь слушателей, мимо него будут проходить так же равнодушно, как равнодушно проходят мимо самого факта, по поводу которого выражается негодование. Отмечая равнодушное отношение печати к этому печальному факту, я только хочу показать, насколько распространено и насколько глубоко пустило корни то явление, о котором я говорю. Его волей-неволей признают имеющим право существования, признает, конечно, прежде всего общество, и с ним вместе не может не признавать и печать, как кость от кости общества и плоть от плоти его.
Борьба со злом при таком положении для отдельного лица является более чем трудной, на какой бы почве это лицо ни повело свою борьбу. Общество, раз оно признало за чем-либо право существования, всегда умеет дать отпор новатору. Всякое преследование за неестественный порок тотчас встречает обвинение преследователя к шантаже.
— Это шантаж! — вполне искренне кричит обвиняемый, так как считает, что, преследуя его за то, что делают безнаказанно все, обвинитель поступает с ним несправедливо.
И его крик находит сочувствие и поддержку со стороны общества, так как на него тотчас откликаются все те, которые только по случайности не обвиняются в том же.
Года четыре назад в городе Б. случайно возникло дело о насилии над одним мальчиком, причем на следствии он указал до 12-ти лиц, имевших с ним постоянные сношения. В числе указанных мальчиком лиц было несколько человек гласных думы. Факт этот в печать не попал, но частно был известен всем, тем не менее, никакого негодования в обществе не вызвал. Над обвиняемыми добродушно посмеивались, подшучивали, но в то же время им сочувствовали, им старались помогать выкрутиться из неприятного дела. Все кричали: «Это шантаж!» — хотя все прекрасно знали, что обвиняемые в этом отношении считаются любителями.
Такое отношение общества к неестественному пороку не может, конечно, не остаться без влияния и на следственную власть. Дел подобного рода в Б. возникает масса, но почти все они, за самым незначительным исключением, идут на прекращение.
Мальчик, обыкновенно, со всеми подробностями описывает гнусный акт, указывает место, время действия, участвующих лиц, — но все это ничему не помогает без сочувствия общества. Общество хором кричит: «Это шантаж!»
И этим криком гипнотизирует следователя, внушает ему непреодолимое сомнение в каждом слове мальчика и, напротив, доверие к каждому слову обвиняемого и его свидетелей, — и в конце концов получается такая картина предварительного судебного следствия, что дело не прекратить нельзя.
И оно прекращается, что само собой набрасывает тень на обвинителя, как на шантажиста.
Биржа тела и неестественная любовь
В результате вырастает уже совершенно невероятное явление. Указанный порок, как известно, карается по русским законам весьма строго, хотя бы и было согласие обеих сторон, — следовательно, какого-либо открытого проявления этого порока быть не должно, и, казалось бы, и быть не может. Однако, в Б. существует также всем известное место, на котором мальчики открыто предлагают себя желающим.
Место это находится в центре города и называется «Парапет». На этом Парапете каждый вечер, на виду у всех, встречаются спрос и предложение… Мальчики-профессионалы, более или менее расфранченные, в туземных костюмах, ждут своих клиентов. И все, не исключая и властей, равнодушно проходят мимо этой гнусной биржи, она функционирует беспрепятственно.
Далее, в различных духанах прислуживают обыкновенно мальчики лет пятнадцати-шестнадцати; они всегда выкормлены, с женоподобными торсами. Это «содержанцы» хозяев. Тут даже встречается нечто вроде настоящей страсти, с изменами, муками ревности, бурными сценами, доходящими нередко до убийства или соперника, или мальчика-изменника.
Было, например, такое дело в судебной практике. Мальчик служил в лавочке и был в связи с хозяином, который пылал к нему. Но за этим же мальчиком ухаживал, и небезуспешно, сосед. Хозяина — содержателя мальчика — мучила ревность, он дошел до того, что стал грозить соседу убийством, но тут они случайно узнают, что мальчик изменяет им обоим.
Враги заключают союз и убивают мальчика.
И такие случаи не редкость. Вообще, принято мстить самому мальчику, и только в редких случаях месть обрушивается на соперника.
В местных газетах часто приходится встречать заметки такого рода: «Такого-то числа, в таком-то переулке найден труп юноши лет 15–16. На трупе оказалось 8 колотых ран».
Ран иногда бывает и больше, — это рассвирепевший ревнивец вымещал на мальчике муки ревности. Убийца в таких случаях в огромном большинстве остается безнаказанным; он известен всем близким, но эти близкие считают его месть законной. Уличный мальчик, брошенный своими родителями на произвол судьбы, становится достоянием улицы, откуда его волен брать всякий желающий и берет. С этого момента он принадлежит своему владельцу, затрачивающему на него известную сумму денег. Охрана своих прав в таком случае и месть за нарушение этих прав считаются вполне естественными и законными. При столкновениях такого мальчика с его обладателем негодование обрушивается не на последнего, а на первого:
«Он взял с улицы, обул, одел, кормил, как на убой, а он?»
Взгляд, как видите, очень простой, как на нарушение права собственности. Закон не покровительствует этому праву, а даже преследует его, но общество не хочет примириться с этим законом, он чужд ему, так как гнусное явление выросло раньше появления русских законов, оно существует много веков и давным-давно сделалось «потребностью» Востока, как его многоженство, дома терпимости, содержанки и проч.
Гнусно, неестественно, но таков Восток, такова его культура, способствующая произрастанию даже и более гнусных, более неестественных пороков.
В требниках восточной церкви, в правилах об исповеди, имеются такие вопросы: «Не палея ли со скотом, со птицею?..»
Эти слова с восточных требников целиком перенесены и в наши русские требники, хотя последний из двух пороков никому из русских не придет и в голову.
Но на Востоке, очевидно, если не сейчас, то в прежнее время и этот порок имел свое место, иначе он не был бы помещен в числе человеческих прегрешений.
Больше того, можно сказать, что порок этот был сильно распространен, так как фигурирует в числе грехов обычных, не первостепенной важности, считается, следовательно, обычной человеческой слабостью, с которой приходится мириться, так как «грешен есмь и во грехах роди мя мати моя».
Вот это-то — «грешен есмь и во гресех роди мя мати моя», как принцип, как уступка человеческому темпераменту, и дает право существования пороку, как бы он, по нашему понятию, ни был гнусен, — и никакая строгость закона тут не поможет, пока само общество не откажется от своих старых укоренившихся взглядов и не признает, что «мальчики», как предмет наслаждения, — гнусность и неестественная гнусность. До тех пор всякие попытки борьбы с этим злом будут разбиваться о пассивное сопротивление общества; оно всегда сумеет защитить «кость от кости своей, плоть от плоти своей».
Какая-либо непосредственная борьба с любителями гнусного порока затрудняется еще и тем, что пороку этому предаются почти исключительно состоятельные буржуазные классы, которые в сущности и являются носителями и выразителями общественного мнения. По крайней мере, голос этого класса всегда раздается громче всех других голосов и, конечно, производит соответствующее действие. Как на пример, можно указать на отношение общества к недавно возникшему в Б. «Обществу защиты несчастных женщин» (по образцу казанского).