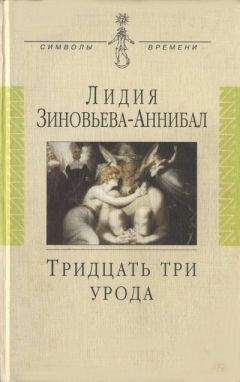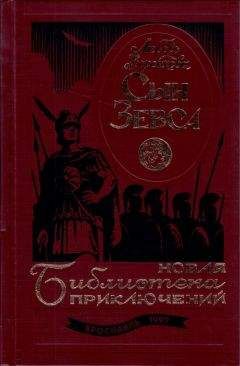Еще она спрашивала:
— Что лучше? Почему лучше?
— Скорее кончится.
— Господи! Что кончится?
Я не знала, что «кончится», не знала, что и почему «тем лучше», но знала, что «Кубок» Шиллера, с его гадким морским чудовищем{33}, больше не стану читать и объяснять. Встала очень дерзко со своего стула против нее и совершенно важно и не спеша выступила из учебной.
Я решила на пруд…
Конечно, после пруда наказана: три дня без игры.
Уже всего тринадцать оставалось головастиков, и ничего, кроме них и чудовища живого, не оставалось в болотной мути.
Прошло, должно быть, со дня объяснительного чтения баллады Шиллера не менее двух недель, и пощаженные головастики, в сущности, уже не были головастиками. Из каждой толстой головы выросло по четыре растопыренных лапки с крошечными перепончатыми пальчиками. Да и голова сама оказалась не только головой, а с мягким животиком и сутулой лягушачьей спинкой.
И я громко хохотала теперь над хвостатыми лягушатами. Отчего на воле, в траве, у лягушек нет хвостов, а в моей банке есть?
Прелести мои, прелести мои!
А чудовище, пожравшее все, что кишмя кишело в моем болотном улове, как фараоновы семь тощих коров, что пожрали семь жирных и не пожирели{34}, — все тем же оставалось плоским, жестким, звенчатым, с сильным, злым хвостом и жадными клещами. Только ростом подлиннее стало.
Я полюбила чудовище.
Оно казалось мне в панцирь одетым. И в беззвучной мути болотной воды, где толпились и толкались зря мягкотелые, бестолковые, совершенно беззащитные головастики, оно одно, четкое, сильное стремительное, — властвовало безусловно над жизнями.
И питалось, властвуя.
И я презирала головастиков.
Бегала, впрочем, на реку и к пруду. Подолгу, присев на корточки, заглядывала в воду. Подумывала туда его выплеснуть. Это чтобы не видеть дальше и чтобы хоть тех тринадцать хвостатых лягушат помиловать.
В пруду снова видела черных головастых, сонливых рыбок. Пожалуй, их примется сосать? Выросло в полмизинца, страшенное!
И ни с чем возвращалась к банке. Там глядела, как сытое, заленившееся чудовище покоится на дне среди высосанных серых шкурок.
Чудовище было таинственным.
Мы много о нем толковали с воспитательницей. Три книжечки пересмотрели, где всякие описаны. Прикладывали, приравнивали, а все-таки не могли увериться ни в его прошлом, ни в его будущем.
— Знаешь, я все-таки думаю, что эта твоя личинка превратится в водяного жука! — решительно объявила воспитательница.
Мы обе тогда стояли у окна и глядели в банку.
— Так ведь водяной жук черный и круглый.
— Ну, что же из этого следует?
— Совсем непохоже.
— Господи, какая ты неразумная! Разве комары, в которых превратились бы те смешные палочки, которые прежде плавали в твоей банке, похожи на свои личинки? А бабочки?
Я не убеждена.
— Водяной жук добрый.
— А ты почему знаешь?
— Вижу в кадках, знаете, под трубами их много плавает.
— Ну, и что же? Ты-то с ними плавала жучком или, например, рыбкой?
— Ну, так что же?
— Почему же ты так уверена, что они тебя не съели бы?
— А все-таки я не верю, что оно водяной жук.
— Да и я не уверена. Странная, таинственная личинка!
Чудовище должно превратиться. Но в кого же? В кого? В кого могут превращаться такие злые, такие буро-желтые, клещатые, звенчатые, с жесткими хвостами, что, как руль, правят на жертву?
Как страшно, что чудовище должно превратиться!
А может быть, все-таки превратится в водяного жука, черного, круглого, блестящего, и… может быть, да наверное даже, конечно, доброго.
Куда же тогда злое пойдет?
Разве оно может совсем пропасть? Совсем никуда не пойти, а просто пропасть? Как пар…
Нет, пар от холода на небе сгущается в тучи, и делается дождь… Ведь так?
Остался один только лягушонок. И хвост у него когда-то отвалился. Стал он таким молоденьким, свеженьким. Такой, такой душка! Зелененький! С крепкой спинкой, растопыренными лапами, в пупырышках, и глазки навыкате.
Из своего домашнего болотца он выбирался, всползая по стеклу, дышал проворно, как карманные часики стрекочут, а толстый мягенький животик проваливался и вздымался у короткой шеи. Сам зелененький-зелененький и всегда из ванны свежий.
Глядит выпученными глазками с мягкими, в складочках веками. Не сползает в воду.
Ручной!
Чудовище?
Что же мне делать с чудовищем?
В реку нельзя. В пруд нельзя. В болото? Там тоже лягушата.
Камень принесла в банку, длинный, узкий разыскала, стойком поставила, чтобы он мог на вершинку вылезать. У него теперь легкие, он теперь легкими, а не жабрами дышит. И легкими и жабрами, когда как ему нужно. Так сказала воспитательница.
Но с камня он сползет. Он любит воду. И тогда…
Убить.
Убить чудовище и спасти ручного мягкого лягушонка, последнего.
Но как убивать такое жесткое, звенчатое? Давить нельзя. Захрустит. Невозможно. Гадостно.
Просто выловить и выплеснуть на солнце. Это на балконе солнце. Рядом, из комнаты, дверь на балкон, собственно, на крышу, отгороженную балюстрадой и крытую листовым железом. Железо накаляется, почти как мои утюжки, которыми глажу куклам белье. (Я их даже пробовала так на солнышке нагревать.) Там юг. Но все-таки, конечно, для этого-то не довольно…
Уж если туда выплеснуть, оно насмерть испечется. Подохнет, поганое.
Да, Вася был прав. Лучше бы уж тогда все вместе плеснула в ведро. Ах, Боже! Отчего так трудно?
До вечера сидел зелененький на камушке. Рот дугой, всюду бородавочки. Глядит. А то спустит складочки мягкие на глаза, и сделаются два выпученных серых шарика.
Ходила злая, нетерпеливая. Сердце замучилось.
Любила и ненавидела чудовище.
Нет, ненавидела чудовище.
Так и спать пошла, не решившись. К вечеру ведь солнце ушло с моего балкона.
Лежу, и засыпаю, и не сплю. Очень это неприятно.
Зажечь бы свечу. Поглядеть, что в банке. Что, если и ночью оно не спит? Есть ли у него глаза? Я не заметила за клешнями. Да, впрочем, это все равно. Ночью ведь глазами не видно.
Высосет. Ой, высосет до утра!
Но тот на камне… Сползет. Ой, сползет с камня в любимую мутную водичку, болотную, родимую.
Я же нарочно из канавки глубокой, где трава скользкая растет, носила. Только уж так норовила, чтобы нового животного вместе с водой не зачерпнуть…
Мысль встрепенулась, и уже нога занесена к полу. Вдруг сердито вспоминаю: «природа! природа!» — «человек хочет, как не может» — «это значит — даже Бога не слушаться».