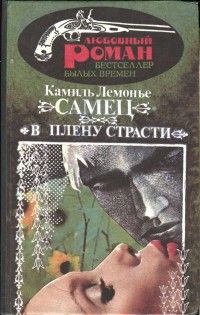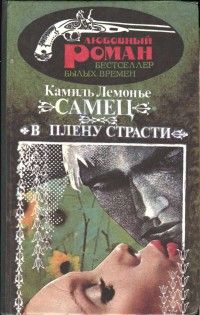Од скрывала от меня свою душу и выставляла только свое обнаженное бесстыдное тело. Она наполняла меня любовью и не требовала, казалось, от меня никакой любви взамен. Наверно и всякий религиозный обряд она совершала также и продолжала оставаться замкнутой и пассивной рабыней, послушной моим самым требовательным желаньям. Ее коварная нежность могла провести самых прозорливых ангелов. Даря свою страсть, она, несомненно, хотела лишь лучше ввести в заблуждение всех, которых, как меня, терзала обманчивой надеждой на взаимную любовь.
В этом большом городе с его распущенными нравами ничто не заставляло нас быть осторожными.
Ночью мы выходили из дома, шли в ту часть города, где тишина наступала раньше, чем в других, и садились на скамью под чинарами среди благодатной прохлады лета.
И там Од навевала на меня настроение, ярко воскресавшее старое и дорогое воспоминание. Не произнося ни одного слова, она сбрасывала с себя платье и накидывала плащ, спускавшийся ей до самых ног.
Последние колокола замирали в сумраке. Кругом стояла тишина.
Она распахивала плащ и являлась мне в своей наготе. Ее тело казалось для меня более дорогим и редким по своей красоте вследствие представлявшейся для нас опасности быть внезапно застигнутыми, вследствие умышленного и явного оскорбления ею общественной нравственности.
Я не могу выразить, какое неслыханное возбуждение вызывало во мне такое осквернение таинства любви. Это был явный расчет вызвать в нас более острое наслаждение. Меня пронизывало ужасным возбуждением, наполняло диким безумием. Я испытывал во всей своей силе бешенство гибели своего существа.
Од и в это мгновение обнаруживала всю свою безмерную власть, как усердная труженица над растлением человеческих душ. К моему возбуждению присоединялась еще острая ревность, словно я оспаривал ее у скопившихся вокруг прохожих, отстаивал от разъяренной похотью толпы. А ночь и нежный, тихий ветер омывал ее трепетавшее легкою дрожью тело.
Это было оскорбительным посягательством на Красоту. Оно погружало меня в жестокий бред, которого не могло рассеять нежное видение ночного леса. Это видение не убивало любви, не оскорбляло священного чувства. Оно гармонировало с торжественною ночью, с сгустившимся сумраком теней, с вечною жизнью человечества.
Ничто не могло осквернить и нарушить этого одинокого и великого великолепия любви: впервые Ева, казалось, предстала перед юным Адамом. Но в тот же миг возрождался внезапно оргийный обряд, и любовь и красота были одинаково оскорблены.
Теперь, уже много лет спустя, при воспоминании об этом я краснею.
Од умерла. С ее смертью я освободился от ее ужасных чар, но было уже слишком поздно. Если я и выздоровел наполовину, то все же хотел бы этим покаянным признаньем спасти молодых людей, которых нелепое воспитание и преждевременное пробуждение чувственности могут уподобить мне, я хотел бы спасти их от опасной встречи с такою же Од.
Меня вскоре стала одолевать потребность в таких разъедающих возбуждениях. Образы, вызывавшие некогда во мне представление о неестественной половой любви, заранее обрекли меня в рабы бесстрашной самке, которая умела их вызывать во мне. Но если бы даже я не видел этих картин, то аскетизм, в котором я воспитывался, вызывая к телу преувеличенное отвращение и вместе интерес, предрасполагал бы меня подчиниться до полного обезличенья власти женщины, прекрасной в своем грехе.
Знать или не знать? – вот в чем вопрос. И следует ли презирать природу? Я могу служить примером заблуждений, которые проистекают для молодого человека, и пылкого человека, из мучительного состояния неведения.
Эти мои признания преследуют одну только цель – показать, каким я стал несчастным, наказанным за чужую вину. Природа хочет, чтобы все органы, вся система жизни прославляли ее от самых сокровенных источников бытия до блещущего благородства лица, от нежной грации рук до красоты всего, что не скрыто одеянием. И все зло проистекает только из того, что эти источники остаются скрытыми и греховными для юноши и юной девушки, которые, не понимая смысла их, терзаются желанием познать их или, познавая их случайно и неожиданно, оказываются беззащитными против растлевающих заблуждений.
Им проповедовали:
«Забудьте ваше тело, ибо оно безобразно».
А они тем более начинали думать о нем и всегда были готовы ему поддаться.
Позднее пышный расцвет сил, возбужденных мясной пищей и вином, – этой трапезой, более варварской, чем пиршество дикарей, – подчиненное положение и вытекающая отсюда извращенность и пустота женщины, этого маленького идола, этой царицы на ложе и покорной рабыни в остальной жизни, – все эти причины заставляют тем легче поддаваться искушению.
Простой народ, живущий в наготе своего тела, пребывает чистый сердцем, под лучами светлого солнца, и только у культурных людей существует эта извращенность любви, побуждающая их искать друг друга под ворохом одежд.
В деревне мужчина и женщина знают лучше друг друга, чем в городе. Там с детства оба пола связаны нежными нитями игр близ ручьев и озер. И брачное ложе дарит их простым и более близким к природе наслажденьем.
Я верю, что со временем наступит пора, когда маленькие дети увидят себя в нагой чистоте своих тел. Их воспитают под семейным кровом в красоте невинности, а в школе добрый учитель расскажет им, чем являются они друг для друга. Им постепенно объяснят значение пола в их жизни, как и в жизни вида, с точки зрения гармонических законов Вселенной; им покажут, что нет никакой разницы между распустившейся чашечкой цветка и расцветшим телом девушки, что сердцевина плода подобна телу супруги, а прививка – красоте символа оплодотворенья. Ведь цветы и плоды не грешат, и садовник не краснеет при виде привитой ветви.
Познание Вселенной осуществится в познании человеком самого себя.
Мир – лишь аллегория человека. Ибо истина заключается в прекрасном саду жизни. И, поверьте, дети пойдут чистыми путями и не будут трепетать и бояться расти друг возле друга.
Но мне говорили:
«Лучше отсеки то, что соблазняет тебя, как мужчину, чем если бы оно стало источником твоей радости». И в меня вселился Зверь.
Я познал невинность лишь после того, как потерял ее, и рай стал для меня пустыней, населенной рыкающими тварями. Опьяненный тяжелым чадом недобродившего вина, я влачил с собою ужас перед телом женщины.
Од в красоте своего тела еще усилила этот ужас после того, как я испытал с нею головокружительные наслаждения. Я никогда не мог взирать на очертания ее обнаженного тела, не испытывая томительного ужаса, что за ним скрывается противоестественность и коварная тайна.