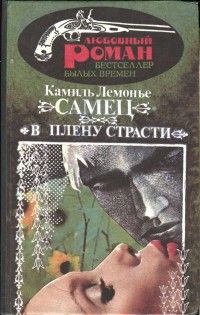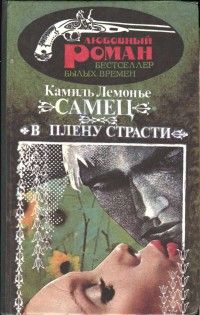И винный хмель превратился в иной хмель, в котором внезапно забурлили соки природы: огни и стол и размалеванная пестрая оргия потонули во мраке перед повергающим в прах символом всемогущего тела.
Кости мои трещали. Все существо мое под влиянием напитков перевернулось. Со стесненным дыханием в груди, скрежеща зубами, я крикнул проклятье Распутству, чей образ приняла моя возлюбленная, озаренная, как ведьма, пламенем костра, – и это проклятье в тот же миг растаяло среди более громких проклятий женщин, разъяренных гневом и завистью.
И вот почти в тот же момент меня охватило искушение, страшное желание утолить, как после святотатственного таинства на скатерти, среди опрокинутых свечей, под сонмом пожиравших ее, как добычу, взглядов, – утолить мою ярость и ревность, рыданья и смех моей отвратительной, посрамленной любви.
Это была агония, в которой любовь и ненависть взрывали мой спинной мозг сросшимися остриями своих игл. И, как при некоторых особых ранах, боль переходит в мучительное наслаждение, – так я испытывал дикую и неистовую сладострастную пытку.
Неизмеримая бездна бытия! Бездонный источник жажды, которой неизлечимо томится дух разрушения и муки!
И ты, человек, лживая помесь, мутная смесь разнородных веществ, нечистый и дивный сплав снега горных высот и тины морей, бесплотная кровь Ангелов и свежий, пенистый гной, изверженный недрами Дракона, – ты, чья нежная и упругая грудь получила безграничную чувствительность только для того, чтобы сильнее испытывать удары, которыми беспрерывно пронзает их горькое ощущение смерти, – ты, о, несчастное человеческое существо, в оскорблении единосущного с твоей сущностью Бога – оскверняешь, низводя до пародии счастья – красоту рая, куда возносится твоя смутная молитва, о, – ты воплощение самых великих противоречий!..
А эта высокомерная и ледяная Астарта, прекрасная бесстыдным целомудрием своей суровой наготы, еще мгновение царила над похотливым смятением людей, сидевших вокруг стола.
Проклиная ее, я не могу не восхищаться той спокойной уверенностью в своей силе, которая вознесла ее так высоко над другими женщинами. Обнажая тайну нагого тела, она казалась более защищенной, чем все они в своих неуклюже пристегнутых платьях. Как куртизанка, она разделась перед толпой и, несмотря на то, осталась воплощенной Красотой. По крайней мере так должна была она казаться им, ибо никто не посмел посягнуть на великолепный дар ее дивного тела. По-видимому священный страх перед Непостижимым лишил их смелости пред дерзновенной отвагой такого необычайного деяния. Од не прикасалась ни к какому вину, и никакое постороннее возбуждение не внушило ей этого добровольного и сознательного поступка.
С двумя черно-бархатными надбровными дугами хищной маски, придававшими ее лицу подобие звериной морды, она стала вдруг для меня самого более загадочной, чем была под ворохом кружев и шелковой ткани для этого сборища пошлых, развратных гуляк.
Од! Од! эта маска со сплюснутой, трагичной гримасой соответствовала твоему внешнему облику, но душа твоя или то, что тебе было дано неисповедимой природой вместо души, еще раз омрачилось неведомыми замыслами. Каким зверем из фауны хищных явилась ты мне в этом облике или, быть может, ты была всеми зверями зараз, чтобы ужаснуть само безумие, которое приковывало меня к тебе проклятыми чарами.
Быть может, Зверь есть пуп Бытия, – быть может, он гнездится в самых глубочайших недрах нашей плоти, чтобы напоминать нам, что он так же гнездится в хаотических источниках бытия. Ибо какой лицемерный богослов посмеет доказать, что кровь Христа омыла Зверя и гвозди Креста искупили страдания предков?
В отношениях полов, этих замирающих кратеров огненного хаоса, этих символов, раздирающих землю сотрясениями, – Зверь пребывает нечистым клеймом прошлой поры, остатком бродящей в центре вселенной лавы, откуда выявился, наконец, растерянный лик человека. Тогда, как души в своем мистическом браке достигают небесных высот и божественно познают себя до пределов познания, – зверь только чует зверя, но ему недоступно познание, как будто Бог, наделив своими щедротами праведных, скрыл запретную тайну сущности жизни от грешников, чтобы породить в них неутомимую тоску по этой тайне.
Од! Од! молю тебя здесь всем изъязвленным сердцем моим, откликнись мне, скажи из глубины вечного мрака, где ныне тлеют кости твои: была ли ты назначена мне, чтобы нам навсегда лишиться возможности познать тайну и тем засвидетельствовать вечную немощность человечества? В этот маскарадный день твоя черная маска с собачьей мордой была как бы символом проклятия всех душ, оскорбленных в тебе печатью пощечины, которую Ангел – посланник небес – нанес своей карающей десницей.
Еще и поныне, сквозь воспоминание этой неистовой ночи, всплывает передо мною твой дьявольский лик; о, жрица литургии извращенной любви! От меня скрыты твой взор и чело – эти престолы более блистательного великолепия, чем надменная плотская красота, которой ты одной была наделена!
Од! Од! Ты отравила меня более жгучим напитком, чем горная смола, чем сок разъедающего зверобоя и сковывающей белладоны, куда ты влила, чтобы усилить остроту яда, кровь и пламень проклятых драгоценностей твоей плоти и с тех пор твоя маска – это подобие твоего ночного бархатного смеха – представляется мне двусмысленным украшением, насмешливым и мрачным, лживым и смертоносным, являющимся как бы символом всемогущества женщины!
Од сделала мне знак. И одежды ее с таким же проворством, как спали, поднялись с полу и одели ее. Словно все сидевшие там, и я в том числе, были жертвами галлюцинации: она под несмятыми тканями, казалось, сохранила нетронутой тайну своей красоты.
Один из пировавших поднялся, шатаясь, и заявил, что огни после такого зрелища не достойны освещать ночь. Это был чуткий к великолепию жизни художник.
Но женщины закричали: «Долой маску»!
Как злобные менады, они взмахивали своими кулаками.
Царила какая-то суматоха. Благодаря всеобщему беспорядку мне стоило растолкать лишь несколько стульев, чтобы добраться незамеченным до лестницы. Од уже опередила меня.
– Бежим, бежим! – проговорила она.
Ее юбки кружились, как крылья зловещей птицы. Мы были похожи на двух злоумышленников после подозрительного деяния. Опрометью кинулись мы по улице в сумерки чуть брезжившего, грустно пробуждавшегося дня.
Исчезнувший хмель оставил во мне лишь угрюмую подавленность. На спине выступал пот. Я не мог остановить лихорадочно стучавших зубов. Мне казалось, что я избежал когтей кошмара, сборища призраков, ужаса человеческого жертвоприношенья.