Когда доходят до конца деревянной набережной, заворачивают полукругом, и опять продолжается шествие. Зачем это делается, Моника не может понять.
Еще одна тайна! Мир ими полон, если верить небрежным ответам старших на ее бесконечные вопросы.
Иногда ей позволяют немножко поиграть — но недалеко от кружка, где заседают мамаши, — с маленькой Морен и с мальчиком, которого она прозвала Волчком за то, что он всегда вертится на одной ножке и поет.
Сбившись в кучу под рассеянным взглядом, они все трое строят воображаемый раззолоченный замок с бастионами и рвами. В середине с граблями на плече стоит кудрявый мальчик по прозванию Баран. Чтобы Баран стоял на месте, они командуют: «Ты будешь гарнизон!»
По правилам игры гарнизон освобождается только тогда, когда замок достроен совсем.
Тогда он бросается и берет в плен одного из троих: кого удастся поймать.
Но Баран уже давно в нетерпении топает ногами и нападает, не дожидаясь завершения постройки.
Волчок и маленькая Морен позорно убегают. Моника же, опираясь на военный договор, не трогается с места. Пока дело идет только о борьбе, она храбро защищается. Но Баран толкает — драка, крик. Прибегает люксембуржина, получает тоже свою порцию тумаков, сбегаются мамаши, растаскивают сражающихся и, не слушая часто очень противоречивых показаний пострадавших, задают виновным хорошую трепку. Баран весь исцарапан. Моника чувствует, как на ходу чья-то рука дает ей два увесистых шлепка. Пораженная, она оглядывается на коварного врага, пользующегося моментом ее слабости… но… это мама! Мама!
Ярость и изумление разрывают ее маленькое сердце. Она узнает, что такое несправедливость, и страдает как взрослая.
Монике десять лет. Она взрослая, или, скорее, как говорит мать, пожимая плечами: невыносимый ребенок с фантазиями и нервными вспышками. Все у нее не как у людей. В воскресенье, например, играла в прятки с Мишель и какими-то сорванцами в парке м-м Жакэ… и изорвала в клочья кружевное платье. Старинное кружево малин, только по случаю по 175 франков за метр…
А вчера увидела из окна кондитерской девчонку-нищенку, пожиравшую глазами витрину с пирожными, схватила с прилавка бриош в полтора кило и вынесла ей. Бриош! Это вместо куска хлеба-то!..
Потом хотела заплатить за него из своей копилки. Но все это не из милосердия делается, а просто по капризу, из какого-то фальшивого великодушия. Даже нехорошо возбуждать в бедных вкус к вещам, которых они сами не могут иметь. Но Монику совершенно не убеждает подобная философия, Монику, желающую осчастливить весь мир.
У нее уже есть и горе — ее не понимают родители. Но она не виновата, если не похожа на других, а тем более если папе с мамой не нравятся ее ввалившиеся щеки и сутулая спина.
— Ты тянешься вверх, как сорная трава, — твердят ей постоянно.
— Если так будет продолжаться, вот увидишь, непременно заболеешь.
Это пророчество Моника выслушивает равнодушно, почти с удовольствием.
Умереть. Экая беда. Кто ее любит? Да никто.
Нет!.. Тетя Сильвестра!
На Пасху Моника встала с постели после жестокого трехнедельного бронхита такая слабая, что шаталась на своих тоненьких палочках-ножках.
Тети не было около нее.
Доктор сказал:
— Ребенка нужно надолго увезти на юг, в какую-нибудь деревню, к морю. Ей вреден и климат здесь, и парижская жизнь.
Тетя Сильвестра сейчас же написала: «Я беру ее к себе в Гиер! Гиер — чудесное место, не правда ли, доктор?»
— Великолепно! Лучшего не может быть.
Отъезд был тотчас же решен, и Моника с радостью мечтала о чудесных солнечных днях возле ее настоящей матери — тети Сильвестры.
Монике двенадцать лет. Она первая ученица в пансионе тети и ходит в форменном платье, с косой.
На перекрестке туманно-серых улиц начинается пансионский сад и тянется, подымаясь вверх, по холму. Бледно-золотой пылью осыпает его солнце, льет свое золото на перья пальм, похожих на два гигантских бокала, на колючки кактусов, на голубоватые, желто-красные букеты огромных алоэ.
Море, как небо, и небо, как море, синими лентами сливаются вдали. И снова Пасха. Цветущая Пасха! Грядет Христос на маленьком ослике в зеленом трепете ветвей.
Земля — пестрый ковер из роз, нарциссов, гвоздик и анемонов.
Завтра Моника наденет белое платье с вуалью, как маленькая невеста.
Завтра ее мистическая свадьба.
Завтра милый аббат Макагир — невозможно произносить это имя без улыбки — примет ее с подругами в церкви перед алтарем и будет экзаменовать по катехизису.
Моника старалась вникать всем сердцем в божественный смысл прекрасных священных легенд и понимала их так глубоко, что даже могла объяснять своей любимой подруге Елизавете Меер.
Лиза — протестантка, она уже четыре года как приняла первое причастие, и суровый пламень ее веры еще более экзальтировал лихорадочный мистицизм Моники. Обе они, в обожании небесного жениха, темным инстинктом уже прикасались к тайнам человеческой любви…
Любовь Моники — вся чистота, раскрытие души, самозабвение. Моника устремляется к ней на крыльях своей мечты, в детском экстазе, и только один страх волнует ее душу: не осквернить бы, не разгрызть бы нечаянно девственно-снежную облатку, невидимую, но реальную частицу тела Божественного Жениха. Поэтому перед причастием она горячо просила аббата Макагира очистить на исповеди ее сердце от всех греховных мыслей. У нее есть две главные, они как черные мухи, вечно садятся на белую лилию ее светлых порывов, это любовь к нарядам — кокетство — и яйца… пасхальные яйца — чревоугодие. Прежде всего те, большие, шоколадные, что присылают из Парижа, потом разные сахарные, разноцветные и, наконец, куриные — красные, которые так забавно искать по клумбам в саду. Тетя Сильвестра заготовляла их сюрпризом за неделю до Пасхи для всего пансиона. По ее мнению, это было своего рода пасхальное причастие. А аббат Макагир качал головой и вздыхал:
— Как жаль, что такая превосходная дама и не верит в Бога!
Но пока аббат прощал тетю Сильвестру, ее грехи никого не приводили в ужас. Без тети Сильвестры Моника не желала бы попасть даже в рай. Лучше в ад — но с ней.
Монике четырнадцать лет. Забыты все болезни, она окрепла, как молодой кустик на родимой земле, она в том чудесном возрасте, когда юность облекает магической вуалью реальный мир.
Она не ведает зла — тетя Сильвестра с корнем вырвала все его плевелы из этой здоровой от природы души. Наоборот, Монику влечет к добру. Она не мечтательна, но верит, только, конечно, не в Бога. Ее детскую веру достаточно подорвали предрассудки аббата Макагира и Лизы Меер.
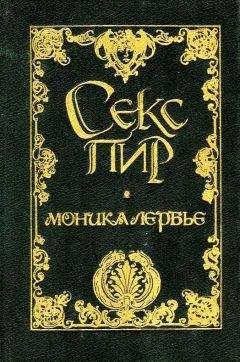
![Даниэль Дефо - Жизнь и приключения Робинзона Крузо [В переработке М. Толмачевой, 1923 г.]](https://cdn.my-library.info/books/19937/19937.jpg)



