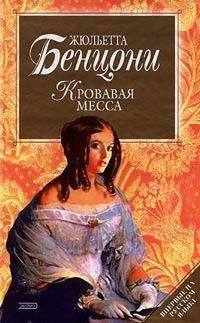Для русского читателя особенный интерес представляет принципиально иная концепция андрогинности (в одноименной части «Пятикнижия»), находящаяся в напряженном диалоге с концепцией Владимира Соловьева («Смысл любви»), В целом можно сказать, что польская культура «Млоды Польской» остается полностью чуждой иренеистической концепции андрогинности, страстно любимой русскими религиозными философами и художниками рубежа веков. В русской традиции, согласно Соловьеву, сексуальное в андрогине одинаково полно сублимируется. У Пшибышевского концепция андрогина выступает как часть борьбы полов, ее определяют сильные и угрожающие женские образы Фелисьена Ропа. Первичная дихотомия полов разрешается у него, как у Соловьева и его последователей, не через сублимацию, в бестелесном преодолении, но через романтически одинокое «Я» в его творческом акте: «Священно ты для меня, ибо ты зачинаешь меня во мне, подслушиваешь темнейшую и обнаженнейшую тайну моей души, намекаешь мне на все ее страшные загадки. Ты для меня блеск и откровение — солнце, в зное которого расплавилось мое сердце»[6]. Утопическое соединение Пшибышевским «ты» и «я» есть не движение вперед, но уход назад: «Он и она должны были вернуться в пра-лоно и превратиться в некое священное солнце»[7].
Программной параллелью лирической прозе является упомянутая выше искусствоведческая эссеистика, которая однако совсем не так, как проза, полностью следует дискурсивному изложению. Она даже в чем-то опережает художественную прозу (два ставшие знаменитыми этюды «О психологии индивидуума», I и II, 1892). В этих этюдах Пшибышевский старается на примерах Ницше, Шопена и Олы Хансон сформулировать главные антропологические и художественные принципы, — обосновывая их, автор одновременно включает их в программу своей новой жизненной философии и художественной теории — последняя яснее всего проступает при описании особенностей Хансон. В этюде можно встретить основополагающие формулировки для понимания Пшибышевским символизма и искусства модернистского толка: «Символизм — это аффективное воспарение, одевающееся в краски, он окружает себя звуками, выводит на сцену вкусовые галлюцинации…»[8].
«Пятикнижие» и искусствоведческая эссеистика по крайней мере первого периода непосредственно связаны с биением мысли Пшибышевского, они обращены — как большинство символистских текстов — к элитарной, посвященной публике, в то время как драма и прежде всего роман предстают напротив транспортным средством новых идей, которые тем самым стремятся завоевать все новые круги читателей. Драма «Снег» и роман «Homo sapiens» — самые известные произведения Пшибышевского не только в России. Ориентировка на определенную публику диктует в обоих жанрах также и поэтику и приводит каждый раз к разной степени новаторства, чье долгосрочное литературно-историческое значение даже сегодня нельзя определить однозначно.
Драма так же, как и лирическая проза, работает с мифологическими структурами, которые глубже раскрывают психические воззрения и окутывают их многозначностью. Их радикальность выводит эти тексты из повседневной перспективы к позднее возникшему «театру жестокости». В своей общей концепции драмы Пшибышевский исходит прежде всего из театра Метерлинка с его суггестивными картинками, которые скорее существуют в ожидании смысла, чем сами обозначают его, и одновременно соединяется со скандинавской драмой своего времени, которую он, как никто другой, знает изнутри. В романе «Сыны земли» Пшибышевский как бы в неявном виде формулирует своего рода теорию драмы:
— «Вообще-то драма недостойна и ломаного гроша. Я по горло сыт глупыми баснями, любовными изменами, жизненными крахами и всеми этими жизненными драмами, которые видел на подмостках тыщу раз.
— Ну и что?
— Что? — он погрузился в задумчивость. — Что? Обнаженное сердце, голый мозг человека — вот что надо показать на сцене! Извлечь их из сердца, из мозга шопенгауэровских мыслительных червей, наделить их жизнью, создать из них живые существа, поставить их на ноги, сделать из них людей с горячей кровью, которые норовят друг друга искромсать и стать одновременной жертвой…
Один вливает в ухо яд хитроумных слов, другой стоит как заслон жертве, а разум человеческий стоит на голове или ползает на четвереньках. Не правда ли, именно этим и занимается всегда разум, наш несравненный разум, блистательный разум! На что он нам дан, черт побери? Видишь — чего я хочу — я хочу достичь бурлящего, яростного карнавала человеческого сердца, я хочу увидеть на сцене сердечное переживание, а все другое — да пропади оно пропадом и в третий, и в тысячный раз! Надо, чтобы под воздействием театра человек испытал за несколько часов нечто такое, что другое сердце не испытает и за сотни дней!
Шарский глубоко задумался.
— Хочешь создать аллегории?
— О нет! Я бы хотел связать все в такой неразрешимый узел, чтобы оно жило, разбрызгивая вокруг горячую кровь, хочу показать любовь и ненависть во взаимной связи, чудовищную пляску смерти человеческого сердца, которая влечет его на край бездны, тащит его вниз до тех пор, пока… пока…
— Пока что?
— Пока человек не отрешится от муки существования и не начнет обратной метаморфозы…
— Обратной метаморфозы?»
В Польше со времен романтизма существует большая театральная традиция немиметического характера. Пшибышевский не занимает в ней заметного места, хотя его пьесы в свое время пользовались в Польше любовью публики. Его «драмы души» остаются, вероятно, формально слишком уж в русле реалистических, то есть психологических мотивировок, чтобы их «модерновость» можно было ощутить через модернистский образ человека, который они транспортируют. Большой шаг от романтического театра к модернистскому совершают в Польше Выспянский и «Новый театр» после 1918 года, возникший по замыслу великого польского писателя Виткевича. Как считает Виткевич, современный польский театр идет не теми путями, которые заданы Пшибышевским: гротескный театр и театр абсурда послевоенного времени черпают вдохновение прежде всего из театра межвоенной поры.
Романы еще более непосредственно, чем драма, создаются из философии Пшибышевского и его «аутентичных» жизненных переживаний, при этом связи с конкретной автобиографией ограничиваются лишь «общими чертами» — вспомним упомянутый выше деструктивный треугольник страсти, информационное содержание которого невелико и туманно. Присутствие автобиографии остается в конце концов в тех границах, которые были заданы некогда романтизмом. Для романтизма признаком аутентичности является новое эмоциональное переживание — для Пшибышевского таковым становится радикализованное эротическое (сексуальное) переживание. Доминантность сексуального насильно связывает индивидуальное с общим, так же как и принадлежащие к этой сфере садо-мазохистские проекции, которыми в определенном культурном контексте пользуется сексуальное, чтобы выразить себя.