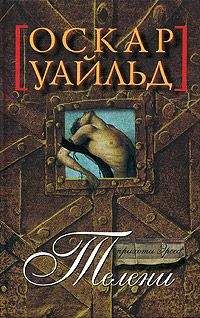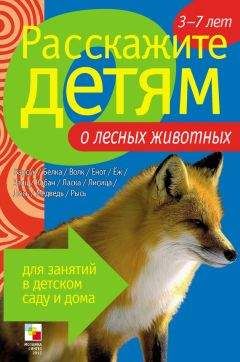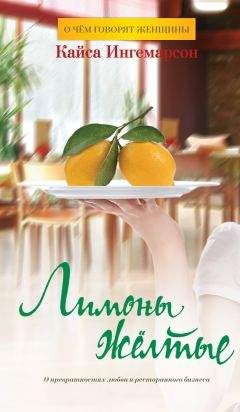Во время моего отсутствия никто не приходил, никто не оставил мне ни письма, ни записки, так что я тоже мог бы сказать:
«Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в дому моем и служанки мои чужим считают меня; посторонним стал я в глазах их» [128].
Как и Иов, я чувствовал, что «гнушаются мною все наперсники мои; и те, которых я любил, обратились против меня. Даже малые дети презирают меня».
И все же я очень хотел узнать что-нибудь о Телени, ибо страх окружал меня со всех сторон. Неужели он уехал с моей матерью и не оставил для меня даже маленькой записки? Но что он мог написать?
Если же он остался в городе, то разве я не говорил ему, что, какова бы ни была его вина, я всегда прощу его, если он отошлет мне кольцо?
— И отошли он кольцо, вы бы его простили?
— Я любил его.
Больше я не мог выносить неизвестности. Правда, пусть даже самая горькая, была лучше ужасных сомнений.
Я зашел к Брайанкорту. Его студия была закрыта. Я отправился к нему домой. Там он не появлялся уже два дня. Где он находился, слуги не знали. Они предположили, что он, возможно, уехал к отцу, в Италию.
Я в отчаянии бродил по улицам и вскоре вновь очутился перед домом Телени. Входная дверь по-прежнему была открыта. Я прокрался мимо швейцарской, боясь, что меня остановят и скажут, что моего друга нет дома. Однако никто меня не заметил. Дрожа и замирая от страха, я пробрался вверх по лестнице. Я вставил ключ в замочную скважину, дверь, как и несколько дней назад, бесшумно отворилась. Я вошел внутрь.
Тут я спросил себя, что же делать дальше, и уже готов был развернуться и бежать прочь.
Пока я стоял в нерешительности, мне показалось, что я услышал слабый стон. Я прислушался. Все было тихо.
Нет, все-таки это был стон — тихий предсмертный вой. Он, казалось, доносился из белой комнаты. Я содрогнулся от ужаса.
Я бросился туда.
При воспоминаниях о том, что я там увидел, у меня кровь стынет в жилах. «Лишь только я вспомню, содрогнусь, и трепет объемлет тело мое».
Я увидел лужу загустевшей крови на ослепительно белом меховом ковре, и Телени, наполовину распростершегося на полу, наполовину — на покрытой медвежьей шкурой тахте. В груди его торчал маленький кинжал, и из раны все еще сочилась кровь.
Я рухнул на него; он еще был жив; он стонал. Он открыл глаза.
Раздавленный горем, охваченный ужасом, я совершенно лишился рассудка. Я отпустил его голову и зажал ладонями свои пульсирующие виски, стараясь собраться с мыслями и как-то помочь моему другу.
Нужно ли вынуть нож из раны? Нет, это может убить его.
О, если бы я был хоть немного сведущ в хирургии! Но поскольку я ничего в этом не смыслил, мне оставалось лишь позвать на помощь.
Я выбежал на лестничную площадку и крикнул что было сил: «На помощь, на помощь! Пожар, пожар! Помогите!»
Мой крик прокатился по дому как раскаты грома. Тут же выбежал швейцар.
Я слышал, как открывались окна и двери. Я снова крикнул: «На помощь!» и, схватив бутылку коньяка, стоявшую в буфете в столовой, поспешил к моему другу. Я намочил ему губы и постепенно, капля за каплей, влил в рот несколько ложек бренди.
Телени вновь открыл глаза. Их застилала пелена, они были почти мертвы; только обычная печаль его взгляда стала такой невыносимой, что зрачки были похожи на мрачную зияющую могилу; они причиняли мне невыразимые муки. Я не мог выдерживать этот скорбный застывший взгляд; я оцепенел; дыхание мое остановилось; я разразился судорожными рыданиями.
«О, Телени, зачем вы убили себя? — стонал я. — Как вы могли усомниться в моем прощении, в моей любви?»
Очевидно, он слышал меня; он попытался что-то сказать, но я не уловил ни единого звука.
«Нет, вы не должны умирать, я не могу с вами расстаться, вы — моя жизнь».
Я почувствовал, как он слабо, еле уловимо пожал мою руку.
Появился швейцар и в ужасе замер в дверном проеме.
«Врача, ради бога — врача! Возьмите кеб скорее!» — умоляюще проговорил я.
Стали приходить и другие люди. Я жестом велел им уйти. «Закройте дверь. Никого не впускайте, но ради всего святого приведите врача, пока еще не слишком поздно!»
Люди стояли поодаль и со страхом наблюдали это ужасающее зрелище. Телени снова зашевелил губами.
«Тихо! Тишина! — прошептал я яростно. — Он что-то говорит!»
Меня мучило то, что я не мог разобрать ни единого слова из того, что он хотел мне сказать. После нескольких тщетных попыток, мне удалось расслышать: «Прости!»
«Прощаю ли я вас, мой ангел? Да я не только прощаю вас, я отдал бы за вас жизнь!»
Его скорбный взгляд стал еще мрачнее, однако в нем появилась тень радости. Мало-помалу глубокая печаль наполнилась невыразимой сладостью. Я больше не мог вынести его взгляда; он терзал меня. Горящий в нем огонь проник в мою душу.
Он снова произнес целую фразу, из которой я скорее угадал, чем расслышал два слова: «Брайанкорт… письмо».
После этого силы совершенно покинули его.
Я смотрел на него и видел, что его взор затуманился, окутался легкой дымкой, он меня уже не видел. Глаза потускнели и стали стеклянными.
Он не пытался говорить, губы его были плотно сжаты. Несколько секунд спустя он судорожно открыл рот; он задыхался. У него вырвался тихий прерывающийся хрип.
Это был последний вздох. Страшный предсмертный хрип. В комнате воцарилась тишина.
Я видел, как люди крестились. Некоторые из женщин опустились на колени и стали молиться.
В голове сверкнула страшная мысль. Так, значит, он умер?
Голова его безжизненно упала мне на грудь. У меня вырвался пронзительный крик. Я звал на помощь.
Наконец пришел врач. «Ему уже ничем не поможешь, — сказал он, — он мертв».
Что?! Мой Телени мертв?!
Я оглядел людей вокруг. Они в ужасе шарахались от меня. Комната поплыла у меня перед глазами. Больше я ничего не помню. Я потерял сознание.
Я пришел в себя только через несколько недель. Мною овладело некоторое отупение, а Земля для странника пустыней стала.
Однако мысль о самоубийстве больше никогда не приходила мне в голову. Смерти я был не нужен.
Тем временем моя история в завуалированном виде обошла все газеты. Для сплетников она была слишком лакомым кусочком, чтобы не распространиться с быстротой огня.
Даже письмо, которое Телени написал мне перед тем, как покончить с собой, и в котором говорилось, что причиной его измены явилось то, что моя мать оплатила его долги, стало достоянием общественности.
И тогда небеса увидели мою порочность, а земля восстала против меня, ибо если общество и не требует от вас быть истинно добродетельным, то оно требует соблюдать внешние приличия, но самое главное — избегать скандалов. Поэтому известный священник — святой человек — прочел назидательную проповедь, которая начиналась так: