– Ну, Эдгар Олегович, остался последний штрих, – показывает он искусственные зубы в оскале. Это у него улыбка такая. Шакалья. Падальщик, которому никогда не стать чем-то бо̀льшим.
– Да, конечно, – смотрю ему в глаза и постукиваю ручкой по столу. Цок-цок. Как топором по нервам. Склоняюсь, делая вид, что просматриваю бумаги.
А дальше…
Грохот. Крики. Я смотрю, как мечутся крысы, что попали в капкан.
– Пётр Григорьевич Янышевский, вы задержаны.
Пристав сухо зачитывает причины задержания. Нелегальный бизнес. Сокрытие доходов. Отмывание денег. Неуплата налогов.
– Ты пошёл против меня, щенок? – Янышевский не слушает, сверлит меня взглядом. Им владеет страх и бешенство – сумасшедший коктейль. – Сдохнешь ты и твоя сучка!
Кажется, меня удержали, а то бы я мокрого места от него не оставил.
Янышевского и его подельников уводят. А я стою, как статуя, во мне нет ни эмоций, ни чувств.
– Всё закончилось, Эдгар, – Сева пытается встряхнуть меня.
Я медленно поворачиваю к нему голову. Внутри меня бездонная гулкая пустота.
– Ничего не закончилось, Сева. Тая…
– Там всё под контролем, – бодрится он и пытается говорить уверенно, но по его дёрганым движениям я вижу: он чего-то не договаривает.
– Поехали! – оживаю я. – Ни одной секунды она не останется там, где опасно.
Он не спорит. Бежит за мной вслед. Я должен быть рядом, когда всё случится. Я должен если не успеть, то хотя бы быть рядом после всего. Янышевский не из тех, кто оставляет свои угрозы впустую.
Тая
Всю ночь я бродила по квартире как маятник. Сидела на кухне, пила чай. Металась по своей комнате и снова выходила. Падала на кровать и пыталась уснуть, но, кажется, лимит и сна, и спокойствия я исчерпала.
– Что ж ты как привидение! – не выдерживает тётка уже под утро. Ещё темно на улице, но скоро настанет новый день. Как прожить его здесь? Как выстоять? – Бродишь, ходишь, покоя от тебя нет. Явилась – будь добра, не тревожь тех, кому нужно отдыхать, например. Все нервы вытрепала.
– Тебе не понять, – не смотрю на неё. Лучше в окно. Туда, где когда-нибудь появится солнце.
– Любишь его, что ли? – что-то обречённо-примирительное сквозит в её голосе.
– Люблю, – поворачиваю голову. – Это как сердце из груди вынуть. Как душу заложить, лишь бы знать, что с ним всё хорошо. Не важно, рядом я или нет. Нужна ему или нет. Это как делаешь сотни ошибок, а потом находишь единственно верное решение. Другого быть не может. Жаль, что ты не способна всё это прочувствовать.
– Способна, – обижается вдруг тётка. – Думаешь, я всегда такой была? Старой да потёртой жизнью? Да и не старая ещё. Только… не приготовила мне жизнь удачливой судьбы. Захотела, чтобы я навсегда одинокой осталась.
Я не спрашиваю: «а как же я?». Потому что тётка сейчас не о полном одиночестве говорит, а о личном.
– И ребёнка потеряла, и не сложилось… А как только кто-то на горизонте появится, обязательно случается что-то эдакое.
По Феде грустит. Вот же – въелся ей в печень. Смутил душу. Там и так не совсем чисто да хорошо, а он ещё и добавил грязи.
– И ведь чуяло сердце, – тоскует тётка, – неспроста он появился, но так хотелось хоть раз не думать и не подозревать. Бабьему счастью поверить хотелось.
И я слушаю её тихий плач, и жаль мне её. Как она говорила? Своя же, пусть и противная.
– Любишь, значит? – прерывает она свои стенания. – Дорог он тебе, паршивец?
– Да, – говорю чуть слышно, а сердце колотится внутри, как свихнувшееся.
– Не посадишь тётку свою, если признаюсь?
Я боюсь пошевелиться, чтобы не спугнуть, а сама готова перед ней на колени встать, лишь бы она не отступила, договорила до конца.
– Вот как бабушка твоя, царство ей небесное, говорила: бес попутал. Злая была. После слов, что на свадьбе Гинц твой сказал. Ты ж знаешь: обиды я не спускаю. Любому, кто против меня пойдёт, мало не покажется.
Это она умела, да. Кляузы строчить. Справедливости для себя добиваться. Молчу, чтобы словом неосторожным не разрушить её откровения.
– Этот ваш, второй. В ресторан повёз. Задобрить, так сказать. После свадьбы-то. Твой паучище тебя уволок, дурочку простодушную, и-э-э-х, – выплёскивает тётка давно наболевшее. – Мужик, одним словом, кобель. Я так и не поняла ваших отношений. Странные какие-то обстоятельства. Но мне что? Ты не жаловалась. Назад не просилась. Да что об этом теперь. А тогда злилась, аж в глазах темнело. Отлучилась я из-за праздничного стола в туалет, а тут она ко мне и подкатила.
– Кто? – вырывается невольно – так остро её шёпот свистящий режет меня.
– Да кто её знает?.. Красивая такая, холёная… Ну, и ресторан был под стать. В жизни в таких не бывала-то. И как-то она так удачно, и настроение у неё созвучное было, будто тоже её обидели. На Гинца твоего бочку катила. Рассказывала, какой он мудак. Чтоб её… И что финансовый труп твердила. Мол, у него – пыль в глаза, а на самом деле, фикция, нет ничего. Обман. А я возьми да и ляпни: транквилизаторов ему с обезболивающими, чтобы сердце встало.
– Что?.. – у меня, кажется, и губы помертвели от тёткиных слов. В ушах – шум и вата.
– Убить она его хочет – знаю теперь точно. Я ж не пальцем деланная. Следила. Ушки на макушке. Знаю, что к чему. И что она травила твоего Гинца – тоже в курсе. По схеме моей, в сердцах сказанной. И её потом нашла, невелика наука. Правда, случайно…
Тётка глаза отводит. Дышит тяжело.
– Ты с ума сошла? – у меня начинает трястись всё внутри. – Что ты натворила? Куда ты влезла, тёть Аль?
– Да вот. Угораздило. Всё наперекосяк пошло, как твой Гинц появился. Одно, другое, третье…Федя ещё… Видела я их вместе. Федю и Яну эту. Думала, крутит она с ним. Ну и пригрозила. На свою голову.
– Шантажировала её? – хочу добиться правды.
– Что-то вроде того, – одной верёвкой повязаны. Деньги просила. За молчание. А потом подумала: даст не даст, а прибьют точно. Боялась тебе признаться. В больнице ещё подумала. И не смогла. Тюрьма как есть светит. И зацепила ты тогда. Жизнь спас, операция, лекарства… мимо не прошёл. А мог бы оставить подыхать – и всё. Я даже обрадовалась, когда ты приехала. Вот, думаю, всё не одна в этой квартире. Боязно самой-то. Не сплю ночами. Всё кажется, кто-то крадётся да шуршит. Жить хочется.
И сразу после её слов – звук непонятный. Словно упало что-то. Стекло звякнуло. Мы смотрим друг на друга испуганно.
– Ты что, окно открывала? – шипит тётка и с беспокойством смотрит на мою комнату.
– Открывала, – шепчу испуганно. – Душно, дышать нечем, а ночью хоть немного прохладнее.
– Дура ты дура! – мечется тётка и убегает куда-то.
А я одна. И слышу шаги.
И дверь моей комнаты открывается.
Стою, в ужасе открыв рот, и не могу дышать.
Высокая фигура вырастает из предрассветных сумерек и шагает ко мне.
– Какая удача, – улыбается Федя и делает большой шаг вперёд. Мне бы бежать, да некуда. Мне бы с места хотя бы сойти, а я не могу.
И тут начинается светопреставление. Звон стекла. Шум. Кажется, в квартиру лезут и через окна, и выбивают двери. Но недостаточно быстро: мужчина хватает меня и зажимает горло рукой.
– Один шаг или движение – и от неё ничего не останется, – произносит он почти спокойно.
Время замирает на миг.
Всё становится расплывчато зелёно-чёрным.
Ужас. Шок. И ни о чём не думается.
А затем – глухой удар, и Федя падает, увлекая меня за собой.
Я лежу на нём, а он дёргается.
Сползаю и встаю на четвереньки – ноги не держат, встать невозможно.
Где-то там, вверху, стоит моя тётка. Белая повязка на голове. В руках – сковородка. Хорошая. Старая. Чугунная.
– Один-один, Федя, – произносит она, ворочая сухим языком во рту, а затем обводит штурмовиков медленным взглядом. – Кажется, я его убила.
51. Эдгар
– Ты только не психуй, ладно? – Сева сидит на заднем сиденье, но напряжён так, что, кажется, если я кинусь – он выскочит из машины на ходу. – Там всё закончилось. Ещё до того, как у тебя началось.

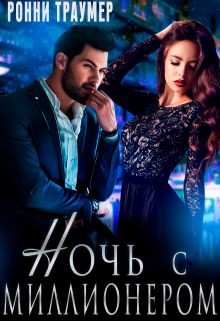



![Екатерина Васина - Загадай меня [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/3215/3215.jpg)