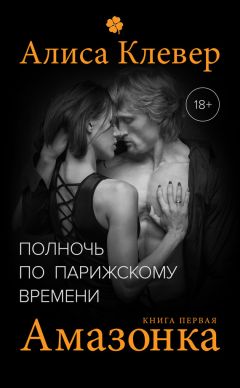И ее это злит.
По-моему, это просто неприлично, быть настолько привлекательным, если ты ежедневно имеешь дело с людьми, мечтающими вернуть или обрести красоту. Это как давать бесплатные наркотики несовершеннолетним детям, цинично и бесчеловечно. Андре Рубен относился к той категории людей, в присутствии которых любой почувствует себя неуклюжим уродцем.
Любой не любой, а я почувствовала себя именно так.
* * *
Что это было? Что за паника и странная беспричинная злость? Андре был живым воплощением мировой несправедливости, того простого и неизбежного факта, что где-то на планете всегда лето, а у кого-то бесконечная зима. Кто-то рождается богатым, а кому-то нечем кормить детей. Где-то в мире идет война.
Кому-то просто на редкость повезло с генами.
Андре прошел к своему столу, и эта пытка его изучающим взглядом оборвалась. Я выдохнула с облегчением и отошла подальше, к креслу, установленному тут скорее для дизайнерской гармонии. Мама встрепенулась, пытаясь принять красивую позу. Привычка нравиться – вторая натура.
Я тихонько присела, все еще хмурясь. Непроизвольная реакция, как я уже сказала. Больше всего я хотела уйти отсюда и никогда не возвращаться. Вернуться в мой простой мир дешевой одежды, скромной зарплаты, обычных людей, гуляющих по парку неподалеку от Бибирево. Поехать в Финляндию, удить рыбу.
Кажется, Андре тоже почувствовал эту беспричинную враждебность с моей стороны. Наверное, поэтому он постоянно соскальзывал взглядом в мою сторону, но я была далеко, в темноте неосвещенного уголка. Затем он углубился в изучение маминых бумаг, а я вдруг попыталась вспомнить, какого цвета глаза у Сережи. Тоже карие? Нет, не такого оттенка, не эти – темный мед с тонкой окантовкой.
Успокойся, Дашка.
– Bonjour, – повторила мама, бросив беспокойный взгляд в мою сторону. Приветствие – почти единственное, что она знала по-французски. – Может, скажешь ему что-нибудь?
– Что сказать? – спросила я, откашлявшись.
– Скажи, что мы пришли по записи, – попросила мама, и я повторила это Андре, но против воли мой тон вышел таким колючим и недружелюбным, что мама поморщилась.
– Что с тобой? – спросила она. – Все-таки решила меня опозорить? Говори, как человек.
– Я и говорю, – буркнула я, за что получила испепеляющий взгляд.
– Скажи, что я слышала о его работе много лестного, – попросила мама. Я кивнула, пытаясь справиться с почти непреодолимой потребностью смотреть на Андре Робена. Это просто какая-то физическая реакция, но неужели я не могу банально держать себя в руках? Ведь это моя фишка – держать себя в руках. Я уставилась на собственные ладони.
– Nous avons entendu beaucoup flatteur à propos de votre travail, – перевела я. Доктор посмотрел на меня удивленно, но ничего не ответил.
– Ты разозлила его! – возмутилась мама. – Видишь?
– Он должен быть вполне стрессоустойчивым, ты не думаешь? – прошипела я в ответ.
– Что за муха тебя укусила? – всплеснула руками мама.
– Никто меня не кусал, – пробормотала я. – Тебе не кажется, что для лучшего хирурга в Париже он слишком молод? Ты хоть проверила, он давно практикует? Откуда ты вообще его взяла?
На вид Андре было около двадцати пяти, хотя, ради блага моей собственной матери, я надеялась, что он старше.
– Ты слышала, что случилось с Рене Зельвегер? – спросила я вдруг, хотя понимала прекрасно, что сейчас об этом не время и не место. Я говорила ровным голосом, словно продолжая какой-то обычный бытовой разговор.
– Опять этот нонсенс! – всплеснула мама руками и покосилась на Андре Робена. Доктор снова оторвался от бумаг и, вот черт, уставился на меня, даже не потрудившись соорудить улыбку на своих красиво изогнутых губах. Чего ему надо от меня?
Темно-русые волосы средней длины, зачесанные назад, теперь растрепались, добавляя ему чуть-чуть небрежности. Я снова поймала себя на том, что бессовестно таращусь на него из своего угла, как на экзотическое животное в зоопарке.
– Она теперь на себя не похожа, мама, – продолжила я, глядя на доктора. – И никто не хочет ее снимать. Ее карьера разрушена. Думаешь, Кузьме будет интересна актриса без ролей?
– Перестань, – мамин голос чуть дрогнул. – Со мной такого не случится. Désolé. – Последнее, «извините», было адресовано Андре Робену. Тот только покачал головой. Видать, в его кабинете еще и не такое случается.
– Имеешь в виду, Кузьма не уйдет? – прошептала я. – Да с чего ты взяла, что этот доктор хороший? Только с того, что он красив и молод? Это ничего не значит, все, что ему нужно, – твои деньги.
– Я не должна была тебя с собой брать, – прошептала мама и отвернулась, уставившись на стену с книгами.
Чего я ожидала? Что я смогу переубедить ее тут, в кабинете, после того, как пробовала уже столько раз? Да, это было жестоко и зло. Я должна была смолчать, но я оказалась на крайней линии, и я была единственной, на кого мама могла рассчитывать по-настоящему.
Если что-то пойдет не так, именно я буду сидеть около нее и держать ее за руку, слушать ее плач и гладить по голове. Я знала, как это будет ужасно, когда (не «если», а «когда») Кузьма бросит ее. Я утешала маму с самого детства.
И тут случилось невероятное.
– А вы считаете, что, если я молод и обладаю приятной наружностью, я наверняка плохой доктор? – спросил меня вдруг доктор Андре Робен на чистейшем русском и в первый раз улыбнулся во всю ширь своих красиво очерченных губ.
Значит, все же у них в клинике есть русскоговорящие сотрудники. Среди врачей. Черт!
Я онемела. Мама, наверное, густо покраснела, но этого все равно было невозможно заметить сквозь толстый слой ее профессионального грима. Я смотрела на Андре и хлопала своими стопроцентно натуральными, не накрашенными ресницами. Он, кажется, наслаждался моментом, смотрел на меня изучающе, чуть склонив голову, и ожидал с нескрываемым интересом, какова будет моя реакция. Да откуда, вашу мать, он знает русский, да еще так хорошо? Никакого акцента! Мамочки дорогие! Это чему же их учат во французских медицинских школах?
– Вы ничего о нас не знаете, – сказала я и тут же прикусила губу. Да уж, не самый умный выбор ответа.
– Я узнаю о вас все, что будет необходимо, у нас будет время для этого. А пока… давайте займемся делом, – ответил он после некоторой паузы. Его спокойный голос был гипнотизирующе густым. Низкий тембр, слова перекатывались, как мягкие плюшевые шарики. У меня дрожали руки, наверное, от стыда и смущения.