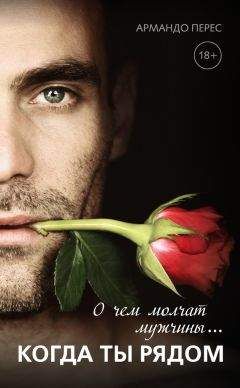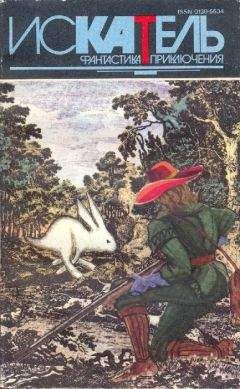Я должен сказать ей только одну вещь и только один раз. Самую важную.
C рвущимся из груди сердцем я врываюсь в Пинакотеку и взлетаю по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Слава богу, я знаю это место как свои пять пальцев. Времени на то, чтобы остановиться и купить билет, у меня нет. Если задержусь хоть на минуту, грохочет в мозгу мысль, я рискую не застать ее там. Тем более что у меня нет никаких причин верить ей. Но я все равно должен бежать к ней. Не медля ни секунды. Я должен сказать ей только одну вещь и только один раз. Самую важную. А дальше она может делать все что хочет: облить презрением, оттолкнуть, оставить меня раз и навсегда. Но если я ей сейчас этого не скажу, я умру. Я никогда себе этого не прощу.
Не сбавляя скорости, я пролетаю через входную дверь, преодолеваю еще одну лестницу, сворачиваю направо, потом опять направо. Топотом взрываю тишину, в которую погружены залы галереи. Вслед мне несутся возмущенные крики служителей и редких утренних посетителей, в основном студентов факультета искусств. Не хватает только, чтобы кто-нибудь из них увязался за мной. Хотя вряд ли, для таких слишком много усилий оторвать задницу от стула. Да пусть даже кто-то и увяжется, наплевать. Главное, найти ее. Вновь найти ее. Я опять сворачиваю направо, в сторону зала ХХIV.
И резко торможу на пороге. «Алтарь Монтефельтро» на месте, взор на сосредоточенном лице Мадонны устремлен на спящего ребенка. А может быть, и на Еву, одиноко стоящую перед картиной.
На ней простенькое белое платье и балетки. Отросшие каштановые волосы рассыпаны по плечам. Я уже забыл, какая она маленькая. И какая красивая.
Она кажется мне не намного выше статуи, которой я подарил ее образ. Хотя, скорее всего, такой эффект производят внушительные размеры картины или пропорции самого зала. Я перевожу взгляд на коленопреклоненного рыцаря в доспехах, который всегда привлекал мое особенное внимание. Это заказчик картины, герцог Федерико да Монтефельтро, единственный смертный в сонме святых. Я смотрю на спящего ребенка, на суровую Мадонну, на совершенное яйцо, нависающее над головой Мадонны из-под полукупола эскедры в форме раковины.
Раковина Венеры, думаю я. Яйцо – символ возрождения.
– Я люблю тебя. – В тишине зала мой голос звучит раскатом грома.
Я набираю полную грудь воздуха…
– Я люблю тебя. – В тишине зала мой голос звучит раскатом грома.
Ева не шелохнется.
Я сказал это. И сразу чувствую, что я стал другим.
Мы стоим неподвижно, словно персонажи картины.
– Я всегда задавалась вопросом, – наконец произносит Ева, – почему Пьеро навешивал драгоценности на ангелов? Наверное, боялся, что они будут переживать оттого, что выглядят хуже, чем увешанные драгоценностями прекрасные дамы, разгуливающие по нарядным улицам?
Я ощущаю, как с каждым шагом к ней атмосфера становится все напряженнее, наполняясь тем чувством, которое я всегда ошибочно принимал за желание. На самом деле это – любовь.
Она поворачивается ко мне, и у меня перехватывает дыхание. Все эти недели она была у меня перед глазами: когда я работал над статуей, когда давал свои кукольные представления, когда спал. Но все мои видения были всего лишь бледным отражением реальности. Я осознаю это, жадно вглядываясь в линию ее профиля, абрис шеи, плеча.
Может быть, она кажется мне такой красивой от счастья, что я, наконец, вижу ее, чего так страстно желал? Ее движения как будто исходят из параллельного мира, и все же это она, все та же, я узнаю ее по тому, как она привычно склоняет голову на плечо, по тому, как вздрагивают ее губы в преддверии улыбки. Как на картине Леонардо, думаю я, мысленно принося извинения Пьеро делла Франческа.
Да, она кажется такой. Совершенной. Я чувствую, как меня охватывает страх при мысли, что я могу быть ей совсем не нужен. Что она не любит меня.
– Хотя что до всех этих драгоценностей таким чистым душам, как ангелы, – задумчиво заключает она.
Я сую руку в карман и достаю оттуда брошь. Все эти долгие часы я то и дело дотрагивался до нее как до талисмана. Кто знает, может быть, это сработало. Я иду к ней, протягивая брошь на раскрытой ладони.
– Насчет ангелов ничего не знаю, но тебе я принес вот это, – говорю я.
Я ощущаю, как с каждым шагом к ней атмосфера становится все напряженнее, наполняясь тем чувством, которое я всегда ошибочно принимал за желание. На самом деле это – любовь. И вновь ее запах застает меня врасплох. Чувственный и нежнейший. Я безумно хочу любить ее душой и телом, сделать ее моей немедленно, снова испытать восторг, который испытал только с ней. Я хочу заняться любовью с женщиной, которую люблю.
Ева с изумлением смотрит на мою ладонь.
– Да-да, это та самая брошь из твоего магазина. Я лишь немного поработал над ней.
Она берет брошь с моей ладони, и легкое прикосновение ее пальцев заставляет меня вздрогнуть. Мягко гладит розу, которую я вырезал из кусочка красного дерева, позаимствованного мною у моей статуи. Это бутон, обещание жизни. Когда я работал над ним, мне казалось, что я слышу его аромат. Тот же, что у Евы. Я вставил его в изящную серебряную филигрань из маленьких листочков на место ужасного куска бутылочного стекла. Как только я это сделал, мне показалось, что брошь была такой с самого начала. Серебро с деревом. Стильной, изящной и единственной в своем роде. Как Ева.
– Это ты сделал… – В ее словах не слышится вопроса. – Такое впечатление, что он вот-вот распустится.
Она поворачивается ко мне, ее глаза полны слез. Губы неожиданно кривятся, как у ребенка, который едва сдерживает рыдания.
Я испытываю такое счастье, что окончательно отбрасываю все сомнения: это и есть моя жизнь, это и есть моя женщина.
– Как же мне тебя не хватало, – шепчет она еле слышно, как бы говоря сама с собой, и вдруг одним шажком сокращает то крошечное расстояние, что разделяет нас, и утыкается лбом в мою грудь. Я испытываю такое счастье, что окончательно отбрасываю все сомнения: это и есть моя жизнь, это и есть моя женщина. У меня вырывается вздох облегчения, а в голове неожиданно мелькает мысль о Да Винчи, нашем единственном общем друге.
Может, из-за того, что я на мгновение отвлекаюсь на воспоминание о зверьке, я не сразу понимаю то, что говорит Ева:
– Я беременна.
Как только до меня доходит смысл ее слов, меня будто парализует. Я вскрикиваю от неожиданности. Ева резко вздергивает голову и серьезно смотрит на меня, в ее глазах больше нет слез. Должно быть, она уже все их выплакала.
– И… – Я должен задать ей этот вопрос. Но не хочу. Но должен.
Но она, как это уже бывало не раз, читает мои мысли.
– Я… С тех пор, как я познакомилась с тобой, у нас с Альберто больше ничего не было, – говорит она. – Ему уже шесть недель, Луис.