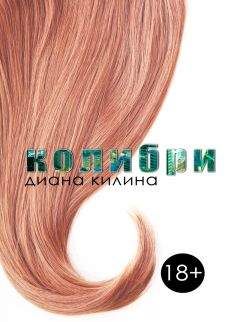– Это как? – Бросить сценарий. Порвать всяческие отношения с тобой, Флавией и вашей группой. И забыть о том, что на свете есть такой фильм – «Экспроприация».
– А как насчет пяти миллионов? Их ты тоже хочешь получить обратно? Чую подвох. До сих пор я худо-бедно удерживался «сверху»; теперь Маурицио коварно пытается снова запихнуть меня «вниз». Пожав плечами, роняю в ответ: – Можете оставить себе. На что они мне? – Ты это серьезно? Сам же говоришь, что буквально оторвал их от семьи.
Да, он прав, как всегда, впрочем. Сейчас бы хоть эти пять миллионов из них выцарапать. Но проклятая закомплексованность не позволяет признать, что мне до жути хочется вернуть мои денежки. Как ни крути, а закомплексованный бездоль признается в чем угодно, только не в том, что он закомплексованный бездоль. Опять пожимаю плечами: – Оторвал и оторвал. Что было, то прошло. Теперь они мне ни к чему. Так что можете купить себе на пять миллионов цитатников Мао! – А режиссура? Выходит, ты окончательно отказываешься и от нее? Кончен бал! Меня приперли к стенке! Загнали и зажали в мышеловке! Маурицио подослал Флавию объявить мне, что я могу больше не рассчитывать на режиссуру; в то же время, как я и думал, он принимает мою игру и спрашивает, собираюсь ли я отказаться от режиссуры, хотя сам, устами Флавии, дал понять, что режиссуры мне не видать как своих ушей. Если я отвечу, что все знаю и ни от чего не отказываюсь по той простой причине, что меня уже заставили отказаться, мой план рухнет и я выдам себя с потрохами. А если отнесусь к режиссуре так же пренебрежительно, как к пяти миллионам, то рискую лишиться последнего, пусть даже призрачного шанса заполучить место режиссера. Как знать, ведь вопрос Маурицио может оказаться одной из его обычных уловок, а может – и запоздалым раскаянием. Иначе как еще объяснить его поспешное появление сразу после ухода Флавии? Короче, если мое предположение верно, Маурицио пришел для того, чтобы воскресить надежду, которую отняла у меня Флавия.
В итоге решаю не рисковать и с раздраженным видом замечаю: – Может, я и взялся бы снова за работу, если бы доверял тебе, Флавии и группе.
– А почему ты нам не доверяешь? – Разве можно вам доверять после того, как вы устроили надо мной суд Линча? – Никакого суда Линча мы не устраивали.
– Вот как? Тогда будем считать, что это была засада, в которую я благополучно попался.
– Это было самое обыкновенное собрание группы. Да, мы проводили его по твоей милости, ибо поняли, что не можем тебе доверять. Как видишь, наши роли на собрании распределялись прямо противоположно. Нам было в чем тебя упрекнуть, тебе же нас – нет.
– Меня-то в чем? – Рико, ты ведь не станешь отрицать, что был У Протти и всячески пытался навредить нам? – Да, я был у Протти. Но все обстоит совсем не так.
– А как? Я снова замялся. На собрании я признал, что действительно ездил к Протти, и объяснил свой поступок «пережитками буржуазного духа». Однако я умолчал об истинной цели поездки – вырвать у Протти обещание сделать меня режиссером. Признаться в этом сейчас означало бы поставить под сомнение правдивость моего самобичевания, подменить «пережитки» какое-никакое, а все-таки достаточно убедительное психологическое обоснование – вульгарным и плоским «расчетом»; словом, еще «ниже» опуститься перед Маурицио. Стараясь избежать прямого столкновения, отвечаю с досадой: – Ты говорил, что на собрании меня подвергнут критике, после чего я выступлю с самокритикой. На самом деле я встретился с явной враждебностью по отношению ко мне. И не надо уверять меня, будто это было обычное собрание. Я, например, уверен, что ты, Флавия и другие члены группы никогда не испытывали на себе подобного обращения.
– Откуда ты знаешь? После минутного молчания продолжаю: – Надеюсь, ты не станешь рассказывать, что вы с Флавией тоже прошли через весь этот ритуал: светофор, заранее отрепетированный, враждебный хор, публичное признание в преступлениях, которые никогда не совершал, и швыряние мелочи в лицо? – Детали были другими, но главное – нас критиковали, и мы критиковали себя.
– За какие-то поступки? – В том-то и дело, что за отсутствие поступков, за то, что мы такие, как есть, точнее, были.
– А именно? – Буржуйчики, родившиеся и выросшие в буржуйских семьях.
Смотрю на него и вижу, что он не просто серьезен, а даже – это-то меня и поражает – «слишком» серьезен. Он серьезен ровно настолько, чтобы выразить нечто такое, что он и его товарищи по группе считают само собой разумеющимся и незыблемым. Чувствуя, что вот-вот распластаюсь «снизу», мямлю: – Никто не виноват в том, что он такой, какой он есть. Винить можно только за поступки и проступки.
– Откуда ты знаешь? Есть вина и вина. Можно быть виноватым и в том, что ты – это ты. Достаточно чувствовать это как вину.
– Если ты не сделал ничего дурного, нельзя чувствовать себя виноватым. Это бессмыслица.
Маурицио не слушает меня, казалось, погрузившись в свои мысли. Наконец он отзывается: – На первый взгляд буржуазное происхождение еще ни о чем не говорит. Но стоит только копнуть – многое выходит наружу.
– Что же? – Выходит наружу, что те, кто искренне считали себя революционерами, на самом деле остались буржуями.
– Выходит наружу? Но как? – С помощью того, что ты называешь судом Линча: с помощью критики и самокритики.
– Ну а, скажем, Флавию – ее когда-нибудь подвергали критике? – Конечно.
– И она выступала с самокритикой? – Еще бы.
– И что она говорила? – Многое.
– Многое? – Даже многое из того, о чем она и не думала говорить.
– И на нее спускали собак так же, как на меня? – Хуже.
– Хуже? – В каком-то смысле Флавия являлась более подходящим объектом для критики, чем ты. Сам посуди: девушка родилась в особой семье, получила особое образование, некоторое время жила особой жизнью, у нее особая манера держаться и выражать свои мысли. В общем, это была легкая добыча. И, надо признаться, ее не пощадили. Ей высказали все, что о ней думают.
– Все? – Без обвиняков.
– И монетки в лицо швыряли? – Нет, до монеток не дошло. В конце концов, она не работает на систему, как ты. Она лишь родилась в ней.
– И что, Флавию тоже смешали с грязью, как меня? – Гораздо сильнее, чем тебя.
– Почему? – Разница между вами в том, что в твоем случае речь шла об отдельном эпизоде, то есть о фильме, а в случае Флавии обвинялась вся ее жизнь.
– Что же Флавия сказала о своей жизни? – Она признала, что вся ее предыдущая жизнь была сплошной ошибкой.
– И как она это признала? – Откровенно.
– Что значит «откровенно»? – Ну со слезами, например.
– Флавия плакала? – Да.
– Но почему? – Потому что раскаялась в том, что была тем, кем была.