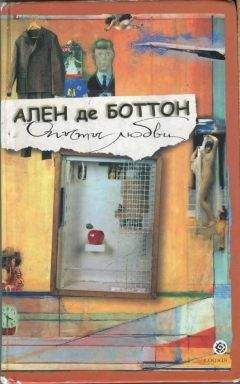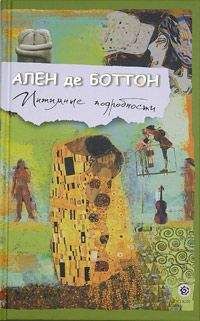5. — Подожди, — сказала Хлоя, когда я расстегивал на ней блузку, — я задерну занавески: не хочу, чтобы видела вся улица. Или почему бы нам не пойти в спальню? Там больше места.
Мы поднялись со смятого дивана и прошли через темную квартиру в спальню Хлои. Широкая белая кровать стояла посередине, на ней громоздились подушки, газеты, книги и телефон.
— Извини за беспорядок, — сказала Хлоя. — Прочие помещения для посторонних глаз, а здесь я действительно живу.
На вершине всех этих подушек восседал зверь.
— Познакомься: Гуппи, моя первая любовь, — сказала Хлоя, протягивая мне серого мехового слона, на физиономии которого не читалось и следа ревности.
6. Пока она очищала поверхность кровати, возникла забавная неловкость: на смену активности наших тел всего минуту назад теперь пришло тягостное молчание, которое вдруг открыло нам, как пугающе мало одежды на нас осталось.
7. Поэтому, когда мы с Хлоей раздевали друг друга, сидя на краю широкой белой постели, и при свете маленького ночника впервые увидели наши обнаженные тела, мы постарались вести себя так же беззастенчиво, как Адам и Ева до грехопадения. Я запустил руки Хлое под юбку, а она расстегнула мои брюки с естественным и непринужденным видом, как будто нам было не впервой разглядывать обольстительные контуры половых органов друг друга. Мы вступили в фазу, когда разуму полагается передать контроль телу, когда разум должен освободиться от всяких мыслей, кроме мысли о страсти, когда не должно было оставаться места ни для суждений, ни для чего другого — одно желание.
8. Но если и было что-то, что могло воспрепятствовать нашей не обремененной мыслями страсти, то это была наша вездесущая неуклюжесть. Именно неуклюжесть призвана была напоминать нам с Хлоей о том, насколько смешно и странно мы заканчивали вечер — вдвоем в постели: я, пытаясь изо всех сил стащить с нее нижнее белье (часть его так и запуталась у нее где-то возле колен), она — мучаясь с пуговицами на моей рубашке. И все же мы оба прилагали усилия к тому, чтобы воздержаться от комментариев, даже от улыбок. Мы упрямо смотрели друг на друга честными глазами страстного желания — как если бы сами не видели смешной стороны происходящего, сидя полуголыми на краю кровати с лицами, полыхающими, как у провинившихся школьников.
9. Когда оглядываешься назад, неуклюжесть в постели выглядит комично и напоминает чуть ли не фарс. В то же время непосредственно в процессе это не такая уж большая трагедия — так, досадная заминка, нарушающая ровное и прямое течение сменяющих друг друга пламенных объятий. Миф о занятиях любовью рисует страсть свободной от малейших препятствий, вроде тех моментов, когда не удается высвободить руки, или свело ногу, или партнер, стремясь довести удовольствие до заоблачных вершин, причинил другому боль. Меж тем такие помехи, как, например, распутывание волос, в значительной степени требуют участия разума — смущающее вмешательство рассудка там, где должно безраздельно царить вожделение.
10. Если так сложилось, что разум традиционно осуждают, то это происходит потому, что он отказывается уступить контроль причинам, попросту устранившись, отказавшись от всякого анализа; философ в спальне так же смешон, как и философ в ночном клубе. В обоих случаях тело является доминирующим и одновременно ранимым, рассудок же предстает в роли молчаливого и отстраненного судьи. Предательство мысли заключено в ее приватности — «Если есть вещи, о которых ты не можешь мне сказать, — спрашивает любовник, — мысли, предназначенные лишь для тебя, то действительно ли твое сердце принадлежит мне?» Протест против этой отстраненности, этого сознания собственного превосходства над другими и питает неприятие интеллектуалов — не только возлюбленными, но и нацией, в судебном разбирательстве и в классовой борьбе.
11. В системе традиционных оппозиций мыслитель и любовник находятся на противоположных сторонах спектра. Мыслитель думает о любви, любовник просто любит. Пока мои руки и губы ласкали тело Хлои, я не думал ничего ужасного, — я думал лишь о том, что Хлое, пожалуй, помешает, узнай она, что я вообще думаю. Поскольку мысль предполагает суждение (а суждение мы все, законченные параноики, воспринимаем в первую очередь как критическое), в спальне, где нагота делает нас особенно уязвимыми, она всегда подозрительна. Целая череда комплексов, сосредоточенных вокруг размеров, цвета, запаха и поведения половых органов означает, что всякое оценивающее суждение должно быть изгнано. Отсюда — вздохи, которые заглушают звуки мыслей любовника, — вздохи, которые подтверждают сообщение: «Я слишком захвачен страстью, чтобы думать». Я целую, и поэтому я не думаю — таков официальный миф, под прикрытием которого происходят занятия любовью. Спальня — привилегированное пространство, на котором партнеры по обоюдному молчаливому соглашению не напоминают друг другу о внушающем благоговейный страх чуде обоюдной наготы.
12. Люди наделены уникальной способностью раздваиваться: действовать и одновременно наблюдать свои действия со стороны, из этого разделения возникает грамматическая категория возвратности. Болезнью же это повышенное самосознание становится тогда, когда человек вообще не способен когда-либо слить воедино наблюдателя и наблюдаемого, не способен быть вовлеченным в деятельность и в то же самое время забыть, что он в нее вовлечен. Это похоже на то, как в мультфильме персонаж легко сбегает вниз с отвесной скалы и не падает, пока вдруг не обнаруживает, что под ногами ничего нет, — тогда он летит вниз и разбивается в лепешку. Насколько счастлив тот, кто действует импульсивно, по сравнению с тем, кто каждую минуту отдает себе отчет в происходящем! Он свободен от разделения на субъект и объект, от навязчивого ощущения зеркала или третьего глаза, который вечно вопрошает, оценивает или просто наблюдает за тем, что делает основное «я» (целует мочку уха Хлои).
13. Есть одна история о добродетельной молодой девице, жившей в XIX веке, которой утром того дня, когда она должна была выйти замуж, мать сказала так: «Сегодня ночью тебе покажется, что твой супруг лишился рассудка, но к утру ты увидишь, что он выздоровел». Разве не потому обижаются на разум, что он символизирует отказ от необходимого безумия со стороны того, над кем он сохраняет власть, когда другие теряют голову?
14. Во время того, что Мастерс и Джонсон[16] называют «стадией плато», Хлоя посмотрела на меня и спросила:
— О чем ты думаешь, Сократ?
— Ни о чем, — сказал я.
— Черт возьми, да я это по глазам вижу. Почему ты улыбаешься?
— Ни почему, говорю тебе, или из-за всего — тысячи вещей: ты, вечер, как мы здесь его заканчиваем, как это странно и одновременно здорово.
— Странно?
— Ну не знаю, да, странно, я как-то по-детски смущаюсь.
— Хлоя улыбнулась.
— Что смешного?
— Повернись на секунду.
— Зачем?
— Просто повернись.
На одной из стен комнаты, над комодом, под таким углом, чтобы Хлое было видно, висело большое зеркало, в котором отражались наши тела, лежащие рядом, запутавшись в постельном белье. Неужели Хлоя все это время смотрела на нас?
— Прости, я должна была сказать тебе, только я не хотела спрашивать — не в первую ночь, это могло шокировать тебя. Но посмотри, это удваивает удовольствие.
15. Хлоя притянула меня к себе, раздвинула ноги, и мы возобновили наше плавное движение вперед-назад. Я перевел взгляд и в переплетении простынь и рук увидел в зеркале отражение двух людей, занимающихся любовью в постели. Прошла секунда или две, прежде чем я смог признать в мужчине и женщине нас с Хлоей. Было изначальное несовпадение между зеркалом и реальностью наших действий, между зрителем и изображением, но это различие было приятным, в отличие от того болезненного расхождения субъекта и объекта, которое иногда предполагает рефлексия. Зеркало объективизировало наше занятие и в процессе давало мне возбуждающую возможность быть одновременно исполнителем и зрителем нашей любви. Разум начал сотрудничать с телом, проснулся и воспроизводил эротический образ мужчины (ноги партнерши теперь на его плечах), занимающегося любовью с женщиной.
16. Разум не может оставить тело, и было бы наивным предполагать обратное. Поскольку мыслить не обязательно означает только выносить суждение (то есть не чувствовать), — мыслить — значит не ограничиваться рамками собственного «я», думать о другом, сопереживать, переноситься душой туда, где не может тело находиться, превращаться в другого человека, чувствовать его удовольствие и отвечать его пульсу, наслаждаться вместе с ним и для него. Без разума тело может думать только о себе самом и о своем собственном удовольствии, без синхронности или поиска путей для того, чтобы доставить удовольствие другому. То, чего человек не может почувствовать сам, он должен пережить в уме. Именно разум вносит слаженность во взаимодействие, регулирует ритм. Если телам предоставить полную самостоятельность, получится безумие на одной стороне и испуганная добродетельная девица — на другой.