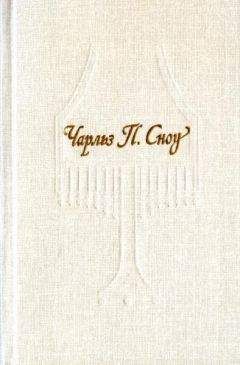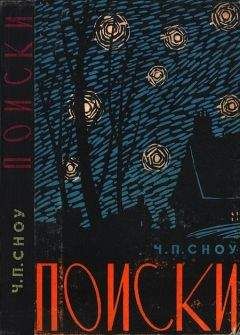Он прошел за ширму по персидскому ковру, стал у высокой постели. Мисс Рис пришлось долго поворачивать голову на подушке, чтобы отвести глаза от окна и посмотреть на него. Он ждал. У Рис, которую вечно ругала Уэзеби, у богатой мисс Рис с прямыми седыми волосами и очень нежной кожей дрожало все тело, и голова, и руки, и ноги. Тетя Спенсер как-то объяснила: "Болезнь Паркинсона".
Бледные глаза чуть расширились, и он понял, что она его узнает. На золотистом стеганом одеяле дрожали руки. Он сказал:
- А я уже позавтракал. Я тут ночевал, потому что мама с папой в гости пошли. Они в винт пошли играть, в "Отель Королевского Парка".
Раньше мисс Рис еще умела кивать, а теперь уже непонятно было, кивает она, потому что ей интересно, потому что слушает, или она просто трясет головой.
- А вы тоже кашу ели? Я кашу ел.
Рука мисс Рис чуть дернулась на одеяле, словно зверек, у которого свои какие-то мысли. Лунки на продолговатых ногтях были белые, как мел.
- А мне на рождество щенка подарят. Спаниеля. Я его к вам приведу познакомиться, ладно? Вам он понравится.
Дрожь не унималась.
Раньше он думал, что Рис старая, старее всех. Она пролежала в постели в лечебнице на Кедровом Поле целых одиннадцать лет. Но он спросил у тети Спенсер, и оказалось, что нет, вовсе Рис не старая, она молодая, ей и пятидесяти еще не исполнилось, в этом-то и трагедия. Она, тетя Спенсер сказала, и на свете-то не пожила.
Он стоял у кровати и ждал, когда зазвонят часы на церкви Святого Мартина. Мисс Рис еще заговорит. Он знал даже, что она скажет. Она всегда одно и то же говорила. Он тер правую сандалию подошвой об носок левой и удерживался, как бы не сбить мисс Рис, не оказаться невежливым.
- Она все соображает, - говорила тетя Спенсер, - ты не думай, у ней просто язык не ворочается, а мозги в порядке. И ты уж с ней веди себя прилично.
Только Уэзеби ворчала, шипела каждый день, гремя подносами после завтрака, после обеда и после гостей, гремя кружками, суднами и горшками, только Уэзеби говорила, когда старшая не слышала, что Рис зажилась.
Вялые, тонкие губы дрогнули, и язык влажно зашарил по небу, нащупывая слова. На подбородке застыл подтек от яйца. "Пачкает, - Уэзеби говорила, все разливает, как дитя малое. Куда уж дальше-то. А все на мне, больше некому, я-то вижу, куда дело идет. Крышка ей, только небо коптит".
Он удивлялся, зачем Уэзеби пошла в няни, а потом сообразил, что больше она ничего не умеет делать, она больше нигде не нужна. Он смотрел, как она пихает ложку за ложкой в беззащитный рот мисс Рис и не дает ей времени глотать, цыкает, понукает. Но один раз она вышла из комнаты на неуемный звонок и оставила чашку, и он взял стул, встал на него, чтоб дотянуться до мисс Рис, и стал тихонечко, осторожно ее кормить. И она все съела, ничего не пролила. Просто это много времени заняло. Уэзеби он ничего не сказал. Мало ли. Может, придется снова ночевать на чердаке.
Наконец у нее получились слова. Он их понял потому, что они всегда были одни и те же.
- Хочешь конфетку?
Словно речь какого-то племени, у которого рот устроен вовсе не так, как у нас, или, может, как блеянье или мычанье, неразборчивое, непроизвольное. Он подумал: каково это, все правильно понимать, все слова, слышать их у себя в голове и никак их не выговорить, и они кружатся, бедные, путаются, болтаются, вроде белья в стиральной машине.
Он сказал:
- Хочу. Спасибо большое, - и снова стал ждать, пока рука чуть-чуть проползет по золотистому одеялу, указательный палец дернется и потянется изо всех сил в сторону шератоновского столика.
Коробка была жестяная, и на ней нарисованы, будто бы вышиты, листья и розы на черном. Там, где открывалась крышка, и у шарниров по бокам краска облезла. Коробка была тут - в левом ящике - всегда. Он знал на ней каждую зазубринку. А внутри лежали леденцы, светло-коричневые, полосатые, в целлофане. Всегда только такие леденцы. Их приносили мисс Рис богатые родственники по воскресеньям. Она сама не могла их есть.
Он развернул целлофан, сунул леденец в рот, и беседа сама собой кончилась, теперь он только потягивал сладкую струйку, гулял по комнате, перебирал знакомые вещи, разглядывал картину "Рождественская охота" и отрывной календарь "Английские сады". Мисс Рис лежала на высокой постели, тряслась и смотрела, смотрела на пустую аллею, на скучный газон.
- Она любит, чтоб я ее навещал, - говорил он тете Спенсер. Визиты были как тетины ответы на его вопрос.
- Я в какой комнате родился?
- В шестом номере, рядом с бывшей детской, по коридору перед Рис.
Одинаковые, знакомые, утешные. Рис. Он знал ее всегда.
- Иди вниз, за тобой мать пришла.
Уэзеби хлопнула дверью, шагнула к Рис, стала подтягивать на постели, та с нее все время сползала, не могла удержаться. Он посмотрел немного, вспомнил холодные пальцы Уэзеби и выскочил из комнаты, даже не оглянувшись на покорный взгляд мисс Рис.
- Мы на субботу-воскресенье останемся у одних знакомых в Линкольншире. Ты там никого не знаешь, и детей у них нет, тебе было бы скучно. Гораздо приятней побыть у тети Спенсер.
Он жевал корочку тоста, вертел и вертел во рту. Опять навалило снегу. Он скрипел у него под сапожками, когда шли в лечебницу. Сумку свою он нес сам.
В комнате у тети Спенсер пахло чем-то сладким. Тут полно было разной мебели, подушечек, вышивок, скатерок, салфеток.
- Я тебе на столе место расчистила, сиди себе и рисуй, - сказала тетя. - И не будешь мешаться у людей под ногами.
Он долго сидел в душной комнате, мучился с перочинным ножиком, с новой коробкой карандашей, пробовал рисовать лошадок, томился. На скатерке - карте Англии - он нашел Линкольншир и стал думать про маму и папу и в каком они там доме остались.
- А какая их фамилия?
- Я же тебе сказала, миленький, ты с ними незнаком, они у нас никогда не бывали.
- Все равно скажи, как они называются. Я про все люблю как называется знать.
Она недоуменно на него покосилась.
- Странный ты! Ну ладно, их фамилия Паунтеней. Мистер и миссис Паунтеней. Вот.
- А они в винт играют?
- Откуда же я знаю? Наверное, играют.
- А почему у них детей нету?
- Такие вопросы - слышишь? - никогда не задают!
Он сам не знал, хочется ему в этот Линкольншир или нет. На стене, над столиком у тети Спенсер висело резное распятие и размыто-блеклая картинка Иисус, агнец Божий.
Он снова принялся за лошадок.
Он услышал шорох двери и сразу проснулся, сел на постели. Было совсем темно. Далеко внизу, на кухне - ночная сестра, и там у нее горит лампа, и огонь в камине, и молчаливый строй звонков на щите. И больше никого. На площадке скрипнули половицы. Уэзеби. Как ни зови, как ни кричи - никого не докличешься, и бежать ему некуда. Вот-вот повернется дверная ручка. Нет, ничего. Звуки. Но они ушли мимо, по коридору и вниз. Он встал с постели, вытянул вперед руки и пошел в темноте к двери.
По всей лестнице донизу на каждой площадке тускло горели лампы, после каждого марша. Он перегнулся за перила и увидел затылок Уэзеби, она повернула и скрылась в коридорчике перед седьмым номером, перед комнатой мисс Рис. Он почему-то испугался.
Ему хотелось по-маленькому, было даже больно, но он боялся спуститься в уборную на первый этаж. Он вернулся на чердак, ощупью добрался до постели и лег, зажав руками пах, чтоб не налить на матрас. Он не мог уснуть. Уэзеби вернулась. Он замер, а потом заплакал от облегчения, когда ее шаги прошли мимо. Ничего, ничего, ему ничего не будет. Он стал думать про Рис.
Он снова проснулся в испуге, ему приснился сон. И он не мог его вспомнить, но он знал - что-то случилось. Пижама была мокрая, и на простыне мокрый след. Было темно. Ни звука на площадке, на лестнице. Еще горели лампы. Кажется, он еще не совсем проснулся.
Дверь седьмого номера была закрыта. Сперва он просто там постоял, дрожа в мокрой, липкой пижаме. Вчера он заходил к мисс Рис, побыл у нее, съел две конфеты, рассказал про маму с папой, что они в Линкольншире, и про то, что у него не получаются лошадки.
- Свет-то выключи, - сказала Уэзеби. - Я ей не нанялась туда-сюда таскаться.
Но он не потушил, было еще рано, и ему жалко было оставлять мисс Рис в темноте.
Каждое утро перед завтраком, и после обеда, и на ночь Уэзеби с кем-нибудь еще сдирала одеяло с трясущейся мисс Рис и высаживала ее на деревянный стульчак. Но вчера Уэзеби пришлось менять все-все, простыни, одеяло - все насквозь; она, сказала Хаггит, паршивка она, распустилась, пальцем лень шевельнуть, звонок нажать. Куда уж хуже-то. Паршивка она, Уэзеби сказала Хаггит.
Ему хотелось сейчас же увидеть мисс Рис, утешиться.
В комнате стояла тьма. Он ничего не слышал, пока не закрылась дверь, а потом услышал тихое жужжанье газа.
Он подумал: наверное, она умерла, а он еще никогда не видел мертвых, только видел гробы, мужчины в пальто их носили по лестницам. Но мисс Рис лежала на двух взбитых подушках, и она не умерла, она дышала, глубоко, и лицо в свете ночника было красное.