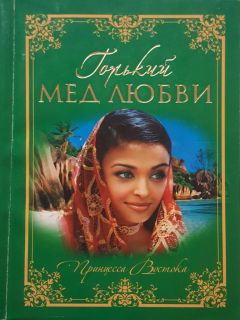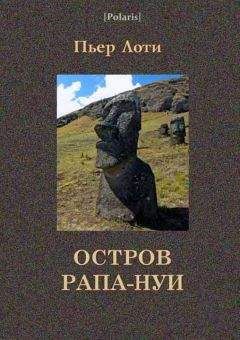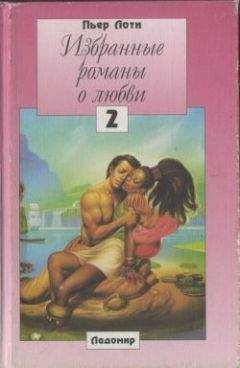К закату солнца все делятся на группы. Женщины для такого случая надевают передники из яркой ткани, украшают себя драгоценностями из чистого галламского золота, на руки надевают тяжелые серебряные браслеты, на шею — бесчисленное множество всяких гри-гри, стеклянные бусы, янтарь, кораллы.
И лишь только появится на небе красный диск луны, постепенно растущий и искаженный миражом, а горизонт окрасится ее кровавыми лучами, поднимается невероятный гам — и праздник начинается.
Порой ареной для фантастических бамбула служит площадка возле домика Самба-Гамэ. Для такого праздника Кура-н’дией дает Фату надеть свои драгоценности. И иногда появляется сама.
Последнее обстоятельство вызывает всеобщий восторг, и старая гриотка выступает гордо закинув голову, вся увешанная драгоценностями, со странным блеском в потухающем взоре. На бесстыдно обнаженном теле с морщинистой шеей, похожем на черную мумию, и обвислых сморщенных грудях, напоминающих пустые кожаные мешки, красуются драгоценные подарки Эль-Гади-завоевателя: изумрудное ожерелье цвета бледной морской воды, бесчисленные ряды золотых бус неподражаемо тонкой работы, золотые браслеты на руках и ногах и золотые кольца на пальцах, а на голове старинная золотая диадема.
Эта древняя мумия Кура-н’дией принималась петь и постепенно воодушевлялась, жестикулируя тощими руками, еле поднимавшимися под тяжестью браслетов. Сухой замогильный голос, вначале звучавший как из-под земли, начинал вибрировать, внушая ужас.
Поэтесса Эль-Гади напоминала призрак. Перед ее расширенными и внезапно засветившимися внутренним светом глазами, казалось, проносились тени былых страстей исчезнувшей славы: полки Эль-Гади, несущиеся по пескам пустыни; кровавые битвы, горы трупов, оставленных на съедение ястребам; осада Сегу-Коро; селения Мессины, купающиеся в лучах знойного солнца на протяжении сотен верст от Медины до Тимбукту, — будто костры из яркой зелени среди пустыни.
Кура-н’дией очень утомлялась пением. Она возвращалась к себе, вся дрожа, и немедленно ложилась на свой тора. Маленькие рабыни, раздев и слегка помассировав, укладывали ее, и она дня два спала мертвым сном.
Негритянский город Гет-н’дар сооружен из серой соломы среди желтого песка. Это тысячи и тысячи маленьких круглых хижин, наполовину скрытых за палисадниками из сухих растений и покрытых большими соломенными крышами. Из этих тысяч крыш самой разнообразной остроконечной формы иные грозят уйти вершинами в небо, иные — свалиться на соседей, а есть приземистые, распластавшиеся, словно уставшие от вечного зноя, они покоробились и сморщились, будто хобот старого слона. Причудливые контуры этих построек вырисовываются вдали, еле доступные глазу, под сводом вечно голубого неба.
Посередине Гет-н’дара, разделяя город на две половины, южную и северную, тянется очень прямая и широкая пыльная дорога, уходящая в безбрежную пустыню. Кругом только пустыня. По обе стороны этой широкой дороги идут рады узких переулков, где можно заблудиться, как в лабиринте.
Сюда-то и направлялась Фату, ведя за собой Жана. По местному обычаю, она держала его за палец своей маленькой черной ручкой, украшенной медными кольцами.
Январь, семь часов утра, только восходит солнце. В это время даже в Сенегамбии прохладно. Жан идет своей тяжелой, уверенной походкой, смеясь в душе над этой вылазкой, совершаемой по настоянию Фату, и над предстоящим визитом. Он охотно позволяет себя вести — прогулка его развлекает. День ясный; прозрачный утренний воздух и непривычное состояние бодрости, благодаря этой свежести, действуют на него благотворно. Жан находится в том редком настроении, когда воспоминания замирают.
Африканская природа приветливо улыбается и убаюкивает спаги. Утренний воздух свеж и прозрачен. За серыми кустами палисадников по обеим сторонам переулка уже слышится стук пестиков, голоса просыпающихся негров и звон стеклянных бус; на всех перекрестках торчат рогатые черепа баранов (или, для знакомых с обычаями негров, tabasku — повешенные), укрепленные на высоких шестах и как бы тянущие свои длинные деревянные шеи, чтобы лучше разглядеть прохожих. Часто попадаются громадные священные ящерицы небесно-голубого цвета — они беспрерывно трясут своими желтыми головами, словно страдают нервным тиком.
Атмосфера насыщена специфическим запахом негров, кожи, кус-куса и сумаре.
У порогов появляются маленькие негритята со вздутыми животами, украшенными ниткой голубых бус, с торчащими пупками, улыбкой до ушей и грушевидной головой, частично выбритой. Они потягиваются и удивленно рассматривают Жана своими громадными глазами с синеватыми белками, а некоторые смельчаки кричат ему вслед «Toubah! Toubah! Toubah!» — здравствуйте.
Отовсюду веет чужбиной, все до последней мелочи дико и странно. Но восход солнца в тропических странах так прекрасен, свежий воздух действует так благотворно, что Жан весело отвечает на приветствия маленьких негритят, радуется затее Фату и старается ни о чем не думать…
Человек, к которому Фату привела Жана, был хитрый старикашка с лукавыми глазами по имени Самба-Латир. Гости уселись на циновках в его жилище, и Фату рассказала о цели своего посещения — положение было серьезное, даже критическое. Уже несколько дней подряд она встречает в один и тот же час безобразную старуху, которая бросает на нее весьма загадочные взгляды — при этом она не поворачивает головы, а смотрит как-то сбоку.
Вчера вечером Фату вернулась домой в слезах и заявила Жану, что ее сглазили. Всю ночь она держала голову в воде, чтобы успокоить первые приступы недуга. В ее коллекции имелись самые разнообразные амулеты против всевозможных болезней и напастей: против дурных снов, против отравления, против ушибов и укусов животных, против измены Жана и яда белых муравьев, от боли в животе и от крокодилов. Не было только предохранявших от дурного глаза и заговора.
За этим Фату и пришла к Самба-Латиру. По счастью, у Самба-Латира оказалось готовое средство. Он вытащил из потайного старинного сундучка маленькую красивую лоханку на медной цепочке и, надев ее на шею Фату, произнес заклинание, от которого злой дух теряет свою силу.
Удовольствие стоило всего два khaliss (десять франков), и не умевший торговаться спаги вынужден был заплатить. Но вся кровь прилила ему к лицу, когда пришлось расстаться с этими двумя монетами. По натуре он не был скуп, даже наоборот, слишком нерасчетлив, но эти два khaliss составляли сейчас крупную сумму для бедного спаги, и он подумал, что, по всей вероятности, его старые родители нуждаются в этих деньгах гораздо больше, нежели Фату.
VII
Письмо Жанны Мери ее кузену Жану
«Дорогой Жан!
Вот уже ровно три года миновало со дня твоего отъезда, а я все жду весточки о твоем возвращении: я безгранично верю тебе и знаю — ты не такой человек, чтобы обмануть; но, несмотря на это, время идет слишком медленно. Зачастую по ночам мне бывает так тяжело и в голову лезут ужасные мысли. Притом мои родители уверяют, что, если б ты захотел, ты давно бы мог приехать в отпуск — навестить нас. Думаю, кто-нибудь из соседей вбил им это в голову, впрочем, кузен Луи, будучи солдатом, раза два навещал своих.
Здесь болтают, будто я выхожу замуж за Сюиро. Какие глупости! Даже смешно себя представить женой этого надутого дурака; пусть себе говорят что хотят, я-то знаю, что для меня никого нет на свете дороже моего милого Жана.
Можешь быть покоен, никто меня не заставит отправиться на бал; пусть себе говорят, что я капризничаю, — ужасно мне интересно танцевать с каким-нибудь Сюиро или с толстяком Туанонак и им подобными!
По вечерам я сижу на завалинке у Розы и думаю о моем Жане — он для меня дороже всего, и мне совсем не скучно. Спасибо за портрет; ты хорошо получился. Хоть и говорят, что ты очень изменился, но я этого не нахожу, — по-моему, переменилось только выражение лица. Я поставила его на камин и украсила пасхальной веткой; когда я вхожу в комнату, он сразу бросается в глаза.
Дорогой Жан, я все не решаюсь надеть драгоценный негритянский браслет, который ты прислал мне в подарок; боюсь, не сказали бы Оливетта и Роза, что я важничаю. Когда ты вернешься и мы с тобой повенчаемся — другое дело. Тогда я надену и золотую цепочку филигранной работы — подарок тети Тунель. Только приезжай скорее, а то я безумно соскучилась; на людях я стараюсь смеяться, чтобы никто ничего не заметил, а потом становится еще тяжелее, и я плачу, плачу потихоньку.
Прощай, дорогой Жан; от всего сердца целую тебя.
Жанна Мери».
Руки Фату сверху были черные, а ладони розоватые. Спаги долго этого пугался и не любил ее рук, напоминавших ему холодные обезьяньи лапы. А между тем ручки у нее были крошечные, изящные, с округлым локотком и миниатюрной кистью. Впрочем, цвет ладоней, наполовину окрашенные ногти действительно казались какими-то противоестественными и потому страшными.