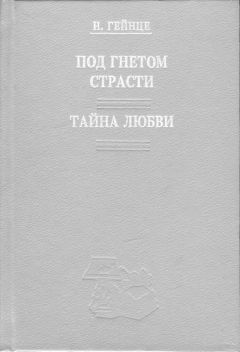По свойственному всем подобным ему людям эгоизму, он обвинял всех, кроме себя: жену и даже малютку-дочь, отнявшую у него первую.
Графиня, увлеченная своими материнскими чувствами, не замечала этого.
Она простила своему мужу, чего же было ему надо еще?
Она подарила его прелестною дочерью — как может он быть теперь чем-нибудь недоволен?
Прелесть взаимного обладания для нее не была вполне известна, она оценила только его результат, лежавший в колыбели.
Она считала это главным.
Она не знала мужчин.
Азбучная мораль, что она должна быть доброй женой и матерью, исполнялась ею, по ее мнению, безупречно; к тому же молодой женщине казалось, что обязанности матери выше обязанностей жены.
Она отдалась им всецело.
О святая тирания колыбели! Дивное могущество слабости, которое привлекает сердце матери!
Конкордия Васильевна сосредоточила всю свою жизнь около крохотного существа, которое только что начинало свою жизнь.
Как чудно хороши и как порой деспотически жестоки эти первые месяцы, когда дитя освобождается постепенно от продолжающейся еще некоторое время бессознательной утробной жизни: первая улыбка — признак возникающего сознания, беспричинный часто плач, как ножом режущий сердце матери, капризы и даже гнев существа, о котором еще не решен вопрос, принадлежит ли оно земле или небу, — все это заставляет трепетать за начинающую нить жизни, которую способно оборвать легкое веяние зефира.
Маленькая Кора перенесла все невзгоды младенчества благополучно.
Период прорезывания зубов самый опасный, заставляющий матерей ежеминутно трепетать за жизнь дорогого существа, прошел тихо и незаметно. В начале второго года Кора начала ходить и лепетать.
Это самый забавный период детской жизни для родителей, первые слова «мама» и «папа» чудной гармонией проникают все существо отца и матери.
С каждым днем ребенок дает окружающим новую пищу для радости и восторга — фантазии начинающего жизнь дитяти неисчислимы.
Графиня Белавина плавала в волнах материнского восторга.
Она непрестанно ласкала и покрывала поцелуями это маленькое розовое тельце, издававшее тот чудный аромат, который присущ только одним детям и который можно найти в пухе птенцов. С неземным упоением слушала молодая мать звонкий смех ребенка, рассыпавшийся, подобно жемчужному каскаду, дивными серебристыми нотами.
Первое время граф Владимир Петрович сам принимал участие в радостях своей жены при наблюдении за началом сознательной жизни их дочери, и если бы кто спросил его, доволен ли он своей судьбой, граф совершенно искренно ответил бы, что никогда не испытывал более полного счастья.
Увы, это было только в первое время.
Тихие радости семейной жизни показались ему вскоре чересчур однообразными.
Ежедневно возвращаясь к себе, он был уверен, что найдет молодую графиню созерцающей свою дочь.
То, что радовало бы другого мужа, как доказательство любви к их ребенку со стороны матери, пожертвовавшей ему всеми удовольствиями и развлечениями светской жизни, производило на молодого графа совершенно иное впечатление.
Эта привязанность Конкордии Васильевны к маленькой Коре бесила его.
Он находил, что его жена очень изменилась к нему, что между им и ей встал этот появившийся на свет ребенок, отнявший у него сердце молодой женщины.
Молодая мать по целым часам играла и возилась со своей ненаглядной девочкой, увлекалась сама придумыванием для нее забав, становясь тоже ребенком, что, впрочем, и немудрено на девятнадцатом году.
Графу становилось это смешным.
За подобным смехом всегда следует скука.
Владимир Петрович захандрил.
Первые радости быть отцом показались ему очень глупыми, а сама семейная жизнь настолько томительно-однообразной, невольно наводящей на мысль, что ее не следовало бы и начинать.
Такое настроение все усиливалось и усиливалось.
Наступил, наконец, день, когда граф нашел свою жизнь невыносимой.
Придя к этому выводу, молодой муж находился уже на краю пропасти, но, однако, удерживался от падения.
Более года прошло со дня свадьбы, и кроме роковой ночи у Кюба на совести графа Белавина не было ни одного упрека. Его бывшие товарищи по кутежам стали относиться с уважением к происшедшей в нем перемене, хотя сначала с легкой усмешкой говорили о графе Владимире, как о верном муже и любящем отце.
Среди веселящегося Петербурга стали даже забывать о нем.
Но «грех да беда на кого не живет», — говорит русская пословица.
Случай, этот современный дьявол, подстерегал свою жертву, воспользовавшись рассказанным нами настроением молодого мужа и отца.
Со дня рождения дочери граф Владимир Петрович проводил все свои вечера дома. Он боялся посещения театра, за которым, обыкновенно, следует ресторан, снова завязать связи с тем светским и полусветским кругом, который, он знал, затягивает человека, как тина.
Он избегал его упорно, точно руководимый каким-то роковым предчувствием.
Это предчувствие сбылось.
Он снова попал в круговорот этой жизни.
Но как же это случилось?
Как? Очень просто, очень естественно.
Однажды на дворе стоял чудный зимний день, яркий и солнечный, какими редко дарит природа Северную Пальмиру.
Был пятый час дня. Невский и Большая Морская кишели народом — это был урочный час прогулки праздных петербуржцев. Расфранченная толпа змеей извивалась по широким панелям, глазея друг на друга и на экипажи, медленно катящиеся от Морской и набережной и по направлению к ним.
Петербург не жил, а прямо клокотал полною жизнью.
Граф Владимир Петрович возвращался домой к обеду после нескольких деловых посещений.
Освещенная солнцем толпа увлекла его и потянула к себе.
Вышедши из саней, он приказал кучеру ехать домой, сказав ему, что пройдется пешком.
Это было на углу Большой Морской и Гороховой.
Граф смешался с толпой и не успел сделать нескольких шагов, как был остановлен возгласом:
— Белавин, ты? Вот судьба… Я только что думал о тебе… и сегодня же решил разыскать тебя…
Перед графом Владимиром Петровичем вырос, как из земли, его старый товарищ по школьной скамье, с которым он не виделся около десяти лет, — князь Георгий Сергеевич Адуев, или попросту князь Жорж.
Богатый помещик одной из приволжских губерний, он посвятил себя чуть ли не с первого года окончания университетского курса хозяйству и земской деятельности, раз в несколько лет наезжая в Петербург рассеяться и повеселиться.
Граф Белавин при настроении духа искренно обрадовался встрече со старым другом.
— Давно ли, дружище, приехал?
— Говорю, только сегодня утром ввалился… и первая мысль была о тебе.
— Мерси!.. Ты все такой же веселый, неунывающий, Жорж!
— А разве ты изменился?..
— Я женат…
— Вот как, поздравляю… Но сегодня у меня тебя не отнимет не только одна жена, а даже несколько… — захохотал Адуев. — Я тебя арестую… Мы обедаем вместе.
— Но…
— Никаких но…
— Поедем ко мне…
— Нет, брат, на сегодня уволь… У меня в моей благословенной провинции достаточно семейных очагов… Прости меня, но это все слишком пресно для нашего брата провинциала… Я не премину сделать визит твоей супруге, о которой ты, конечно, расскажешь мне за бутылкой доброго вина…
Граф Владимир Петрович улыбнулся и не стал возражать.
Он внутренне соглашался, что домашний очаг действительно «пресен» даже и не для провинциала.
Так, впрочем, обыкновенно кончаются такие приглашения.
Трудно отказать другу, которого встречаешь через несколько лет разлуки, пожертвовать ему день, вечер. Быть может он не будет иметь более этого случая.
— В таком случае я уведомлю жену запискою… — заметил граф Белавин.
— Что дело, то дело…
Приятели дошли до угла Невского и Морской. Граф вынул записную книжку и на клочке бумаги написал графине несколько слов. Вручив эту сложенную лишь вдвое полуоткрытую записку посыльному, он приказал ему отнести по написанному на ней адресу, не сообразив или же прямо не думая, что такая бестактность может оскорбить молодую женщину.
Адуев и Белавин пошли обратно.
— К Кюба?.. — спросил первый.
— Нет, лучше к Контану…
— Поедем…
— Пройдемся пешком… Погода восхитительная…
Приятели прошли по Морской и повернули по Гороховой.
Дьявол-случай раскидывал свои сети искусно.
Первое лицо, встреченное ими в швейцарской ресторана Контан, была балетная Маруся; один из швейцаров надевал ей теплые ботинки, другой держал великолепную ротонду из голубых песцов.
— Вот бабенка… восторг… — шепнул Адуев Белавину при виде этой картины.