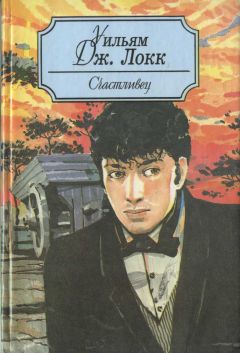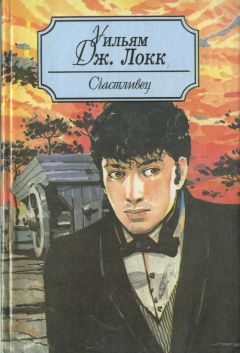Однажды во время репетиции исполнительница главной роли сказала:
— Если бы мой музыкант — или оркестр за него — мог взять здесь несколько аккордов, было бы гораздо лучше. Во время всей сцены мне нечего говорить.
Поль ухватился за эту фразу.
— Я могу играть на мандолине, — заявил он.
— Вот как! — отозвался режиссер, и Поль был передан в руки дирижера и на следующий день репетировал уже с настоящим инструментом, из которого извлекал звуки, как полагалось. Он не упустил случая объявить Джен, что он музыкант.
Постепенно Поль освоился с разношерстной публикой, наполняющей лондонские театры. Некоторые были откровенно вульгарны, другие — претенциозно вежливы, немало было и хорошо образованных молодых людей из высшего общества. Безошибочный инстинкт Поля направлял его к последним. Он мало понимал в тех вещах, о которых они разговаривали, в играх в гольф и крокет, в Ибсене, которым тогда были заняты все умы, но внимательно слушал, надеясь научиться.
Теперь Поль использовал то, что приобрел, будучи «прилежной обезьяной» мастерских художников. Его приемы были несколько утрированы: он ниже опускал шляпу, приветствуя дам, входящих в двери театра, чем то было необходимо; он был поспешнее в вежливых жестах, чем молодые люди из университетов; более почтительно наклонялся к человеку, заговаривавшему с ним, чем это принято вне придворных кругов, но все это были признаки хорошего воспитания. Нередко барышни спрашивали его, не иностранного ли он происхождения. Поль вспомнил такой же вопрос Раулата много лет тому назад и чувствовал себя польщенным. Он не отрицал, что его влечет к признанию экзотического происхождения, и избрал Италию. Италия была романтична. Когда он получил роль в несколько строчек и должен был появиться на афише, он воспользовался случаем переменить имя, которое, впрочем, и не считал своим. Кегуорти оказался в куче выброшенных вещей, и он стал Полем Савелли. Но это было позднее.
Он приобретал друзей в театре. Некоторые из дам ласками и лестью изо всех сил старались совратить его, но Поль был слишком захвачен мечтами о величии и своими дилетантскими литературными и музыкальными занятиями, чтобы увлечься ими. Дружбу с представителями собственного пола он ценил много выше, чем женские чары. Он инстинктивно искал друзей, как больная собака ищет целебной травы, бессознательно ощущая необходимость в них для своего умственного и нравственного развития. Кроме того, отношение к нему театральных дам напоминало ему отношение художниц в прежние годы. Он не хотел больше быть балованной обезьянкой. Мужчина возмущался в нем. Утомительный день речного спорта был ему значительно более по вкусу, чем время, проведенное в Кенгсингтоне за чаем с сандвичами с какой-нибудь сентиментальной Амариллис. Джен, видевшая его выступление на сцене, хотя и не из ложи, так как Поль смог получить только пару мест в верхнем ярусе, была поражена выдающимся положением, которое Поль занял в мире подмостков, и сказала ему со вздохом:
— Теперь, когда вокруг тебя все эти красивые девушки, я думаю, ты скоро перестанешь вспоминать обо мне.
Поль отмахивался от этих опасных гурий, как от комаров.
— Меня тошнит от девиц, — ответил он тоном таким искренним, что Джен подняла голову.
— О! Так, значит, вместе с остальными тебя тошнит и от меня?
— Ну что ты ко мне пристаешь? Ты для меня вовсе не девица, то есть я не то хотел сказать. Ты — товарищ.
— Да, но все же они красивее меня, — голос Джен звучал вызывающе.
Он взглянул на нее критически и констатировал, что перед ним предмет, весьма приятный на взгляд. Ее щеки, обычно по-лондонски бесцветные, разрумянились, голубые глаза сверкали, маленький подбородок был гордо поднят и сквозь полуоткрытые губы виднелись белоснежные зубки. Она была одета в изящную простую кофточку и юбку, и ее едва развившаяся фигурка отличалась хорошей осанкой.
— Красивых среди них мало, — сказал Поль, — когда не раскрашены.
— Но ведь ты их всегда видишь раскрашенными!
Он рассмеялся:
— Тогда у них идиотский вид! Глупый котенок, разве ты не знаешь? Мы обязательно должны утрировать раскраску, иначе никто в зрительном зале не увидит ни рта, ни носа, ни глаз. Издали это кажется красивым, но вблизи отвратительно.
— Откуда же я могла это знать?
— Конечно, ты не могла знать, пока не увидела бы сама или тебе не сказали бы. Но теперь ты знаешь.
— И у тебя идиотский вид?
— Отвратительнейший! — снова рассмеялся он.
— Я рада, что мне не пришло в голову идти на сцену, — сказала Джен. — Я не хотела бы раскрашивать лицо.
— К этому привыкаешь, — изрек многоопытный молодой человек.
— Мне кажется, это ужасно — раскрашивать лицо!
Поль направился к двери — они находились в маленькой комнате позади лавчонки — и глаза его гневно вспыхнули.
— Если ты находишь, что все, что я ни делаю, плохо, я не могу разговаривать с тобой.
Он вышел.
Джен сразу поняла, что поступила скверно, и выбранила себя. Конечно, она приревновала его к театральным девицам, но разве он не доказывал ей всегда, как мало обращает на них внимания? А теперь он ушел. В семнадцать лет возлюбленный, ушедший на час, — это возлюбленный, ушедший навсегда. Она бросилась к лестнице, по которой еще скрипели его шаги.
— Поль!
— Да!
— Вернись! Спустись скорей!
Он спустился и последовал за ней в комнатку.
— Я виновата, — сказала она.
Поль милостиво простил ее, так как пришел уже к зрелому выводу, что женщины не ответственны за свои отступления от здравого смысла. Кроме того, несмотря на серьезность, с которой он относился к себе самому, он был очень добродушным юношей.
Барней Биль, бросивший, так сказать, якорь в лондонском порту, чтобы принять груз, тоже посетил театр, придя к концу пьесы. Как было условлено, он дождался Поля у дверей театра, и Поль, выходя, взял его под руку, повел в сверкающий бар на Пиккадилли и с княжеским видом принялся угощать, памятуя о его всегдашней жажде.
— Как странно, — сказал Биль, утирая губы обратной стороной ладони после мощного глотка из пивной кружки, — как странно, что ты угощаешь меня напитками в таком шикарном месте. Ведь вот, кажется, еще вчера цена тебе была ломаный грош, и ты болтался со мной в старом фургоне.
— Я малость продвинулся с тех пор, не правда ли? — спросил Поль.
— Еще бы, сынок. Но, — Барней Биль окинул взглядом шумный сверкающий зал, красивых служанок, хорошо одетую толпу посетителей, среди которых некоторые были во фраках, полдюжины шикарных дам, сидящих с мужчинами за маленькими столиками у окна, — я думаю, насколько больше настоящего счастья и покоя в деревенской корчме, и пиво дешевле, да и вкуснее.
Он провел пальцем между короткой шеей и твердым стоячим воротником, который, казалось, отпилил бы ему голову, если бы не крепость его кожи. Чтобы оказать Полю честь, Барней Биль надел все лучшее — удивительно сшитый пиджак, эксцентричного покроя брюки цвета лаванды, смешную маленькую шляпчонку, слишком маленькую для его головы, и галстук всех цветов радуги — словом, весь туалет, который он приобрел лет двадцать тому назад, чтобы украсить одну свадьбу, на которой был самым шикарным гостем. С тех пор он надевал этот экзотический наряд не более полудюжины раз.
Приземистый маленький человечек со сверкающими глазками, столь очевидно стесненный своим странным костюмом, и прекрасный юноша со свободными движениями в хорошо сидящем синем костюме составляли удивительный контраст.
— Неужели ты никогда не тоскуешь по порывам ветра и аромату дождя? — спросил Барней Биль.
— Мне некогда, — отвечал Поль. — Я занят весь день.
— Да, да. Приятель был прав, говоря, что нужны всякие люди для того, чтобы составился мир. Есть такие, которые любят электричество, и другие, которые любят звезды. Мне подавай звезды!
И по деревенскому обычаю Барней Биль описал несколько кругов пивной кружкой, перед тем как поднести ее ко рту.
Поль задумчиво потягивал свое пиво.
— Вы находите счастье и покой под звездами, — проговорил он тихо, — и если бы я был свободен в своих действиях, я завтра присоединился бы к вам. Но вы не можете добыть славу. Вы не можете свершить великих дел. А я хочу… я, правда, сам не знаю, чего хочу, — рассмеялся он, — но знаю, что чего-то большего!
— Да, мой мальчик, — сказал Барней Биль. — Я понимаю. Ты всегда был такой. Ну что же — приблизился ты к своим высокородным родителям? — и глаза его внезапно подмигнули.
— Меня теперь нисколько не интересует, где они, — ответил Поль, закуривая папиросу. — Когда я был ребенком, то мечтал, что они отыщут меня и сделают для меня все. Теперь я мужчина, приобретший жизненный опыт, и полагаю, что должен все сделать для себя сам. И клянусь свой честью — он ударил кулаком по стойке и улыбнулся сияющей улыбкой молодого Аполлона, — я сделаю это!