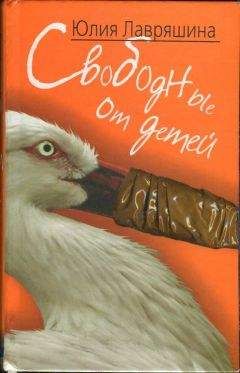— Вы такая красивая… Я подумала, что вы добрая.
«Ты ошиблась», — едва не вырвалось у меня. Но я ничего не успела сказать, потому что в дверь опять позвонили.
Подскочив, девочка едва не тычется в меня мокрой мордочкой, мгновенно исказившейся ужасом:
— Не открывайте! Она опять меня побьет!
— Это твоя мама?
Особенно удивляться нечему и возмущаться тоже… Родители бьют своих детей. За то, что они хоть похожие, но другие, и осмеливаются иметь свое «я». За то, что их надо кормить, а для этого нужно зарабатывать, предавая талант, напрягаясь больше любых мыслимых возможностей и занимаясь делом, которое вызывает отвращение. Любимое дело и любимая семья — две вещи несовместные. Что-то одно обязательно начинаешь ненавидеть, потому что другим приходится поступаться, отказываясь тем самым от своей цельности. От души своей. От той себя, какой тебя задумал Бог. В народе говорят проще: за двумя зайцами погонишься…
Девочка кивает:
— Папа сегодня сказал, что маме придется со мной дома сидеть, пока я начальную школу не окончу. Ну, вы знаете…
— А в каком ты сейчас?
Звонок повторяется, прошивает пронзительным звуком, и маленькое тельце болезненно передергивается. Но она все же находит в себе силы ответить:
— Ни в каком. Я в сентябре только в первый класс пойду.
«Еще три-четыре года», — мысленно подсчитываю я, поймав себя на том, что не знаю точно, сколько теперь учатся в «началке».
— А кем была твоя мама до того, как ты родилась?
В этом вопросе даже мне самой слышится упрек. И девочка мгновенно ловит его и прячет глаза — мне чудится, что ради того, чтобы в ответ не упрекнуть меня в черствости. Отвечает еле слышно:
— Она работала на телевидении. Журналисткой.
Десять лет вне профессии. Без камер и новостей. С кастрюлями и памперсами. Банальный вопрос: стоило ли пять лет учиться, чтобы потом в два раза дольше подтирать сопли своему чаду? Зачем тогда и школа тоже с ее тригонометрическими функциями и физическими законами? В каменном веке рожали, не зная этих законов, и все получалось. Вот книг не писали, в космос не летали… Может, и не стоило начинать? Тупо рожали бы и рожали, в геометрической прогрессии умножая род человеческий, и бродили бы по земле, босые, в шкурах, окруженные десятками вшивых, грязных детишек, — счастливые! Гигантские кролики, овладевшие только одним искусством, одной наукой, одним ремеслом…
В стуке, которым эта женщина уже в нетерпении осыпает мою дверь, слышится дробь, которой она готова расстрелять целый мир, лишь бы отбить себя саму у этого злобного сообщества, пытающегося вогнать ее (каждую из нас!) в потасканную шкурку крольчихи. Скоро транспаранты повесят по Садовому кольцу: «Рожай! Рожай! Государству нужны новые солдаты!» Глуши в себе ужас, в котором одновременно и ты со своей потраченной на ерунду жизнью, и твой еще не рожденный сын, которому уже шьют военную форму, готовят автомат. Тебе — черный платок в сорок лет и до смерти. Потом разве снимешь траур? Даже если попытаешься надеть шляпку, черная кайма так и останется вокруг лица, и ты будешь видеть ее, чувствовать кожей. Всегда.
Родить — похоронить. Еще раз, и еще, снова и снова. Именно так и жили в веках предыдущих, в тех же пеленочках, что в колыбель, укладывали в гробик, и снова отправлялись рожать, уже не соображая, что происходит, — природа-мать велела!
Эта женщина, которой я уже открываю дверь, смеет спорить с природой. Пусть подло, на ребенке отыгрываясь, но сопротивляется, борется, кулаками отстаивая свое нежелание сживаться с кроличьими ушами. Я тоже не хочу этого, и потому смотрю на нее как на сестру. Не по несчастью — по разуму. И она мгновенно понимает, что в моем взгляде, и губы робко улыбаются: неужели нашла?
— Даша у вас? — спрашивает после обычного приветствия.
Я киваю, пропускаю ее. Красивая, стройная женщина, еще держится, сохраняет форму, надеясь, что это когда-нибудь пригодится. Судя по цвету волос ее дочери, блондинка она вполне натуральная. Взглядом оцениваю волнующую мягкость в меру большой груди — после родов она обрела этот признак женственности или обладала им раньше? Впервые приходит в голову, что для человечества, уже перенаселившего планету сверх всякой меры, может стать спасением гомосексуальность. Женщина никогда не родит от женщины, но радости может получить не меньше, чем от мужчины. И никаких опасений, и этих безумных подсчетов сроков, никаких абортов, оставляющих ощущение младенческой крови на руках, никаких десятилетних перерывов в карьере…
Малыгин в чем-то прав: должна быть низшая каста рожающих, всегда ведь найдутся лишенные интеллекта, но обладающие отменным здоровьем вроде Лизы. Пусть производят солдат, чернорабочих, кого угодно, лишь бы не мешали нам жить.
— Она очень напугана, — говорю я, не обнаружив Даши в комнате, где оставила ее. — Наверное, спряталась где-то. Присаживайтесь.
Она опускается на то место, где только что сидела ее дочь, криво усмехается:
— Не воспринимайте всерьез все, что она говорит. У нее бывают истерические реакции.
К счастью, она говорит о своей дочери в третьем лице, как и должно быть. Назойливое и слащавое материнское «мы», которое слышишь повсюду, вызывает у меня приступы тошноты. Человек добровольно отказывается от своей личности, срастаясь с другим существом, и даже не понимает трагедии происходящего. Индивидуальность нивелируется.
— Даша наблюдается у невропатолога, — поясняет она тихо. — В ее воображении все происходящее принимает уродливые, гипертрофированные формы. Стоит заговорить с ней чуть строже обычного, она уже начинает рыдать и прятаться. Но если идти у детей на поводу, из них вырастают те монстры, которые катаются по полу в магазинах, требуя игрушку. Ведь правда?
— Абсолютная, — подтверждаю я. — Сейчас я приведу ее.
— Спасибо, — она устало улыбается. — Кстати, меня зовут Агатой. А ваше имя я знаю.
Заметно, что Агате осточертело все, что наполняет ее жизнь, но она держится стойко, как оловянный солдатик. И это вызывает уважение. Я оставляю ее и отправляюсь на поиски Даши, которая находится не сразу, уже заставив меня беспокоиться. Девочка прячется за моим любимым креслом, и это на миг вызывает во мне досаду, будто священное место осквернено.
— Выходи. За тобой мама пришла.
Но она только мотает головой, пытаясь разжалобить меня видом своего кривящегося ротика. Я вытаскиваю ее за руку. Упираясь, Даша цепляется за синие подлокотники и чуть сдвигает кресло.
— Сколько в тебе силы, однако!
Внезапно девочка обхватывает меня за пояс и бормочет сквозь слезы:
— Не отдавайте меня! Не отдавайте. Она же убьет меня сегодня!
— Глупости, — я разнимаю ее руки. — Никто тебя не убьет. Ты все придумываешь, признай это. Фантазия — это, кстати, совсем не плохо, может, ты даже станешь писателем, как я…
Ее руки беспомощно свешиваются:
— Не стану. Она убьет меня.
— Опять ты…
— Женщины часто убивают детей, вы разве не знали? Вы же тоже убили двоих!
Она будто плеснула в меня кипятком. Отшатываюсь, ошпаренная, и на миг теряю над собой контроль:
— Откуда ты знаешь?!
Только Лере было известно о тех двух абортах, не могла же она…
— Я вижу, — шепчет Даша. — У вас так не бывает? Я думала, писатели тоже так видят.
— Что значит — видишь? Ты насмотрелась фильмов про экстрасенсов?
— Я сама по себе вижу, — она оглядывается на открытый проем двери, в котором в любую секунду может возникнуть ее мать.
И во мне вдруг начинает незнакомо вошкаться та самая жалость к маленькому существу, о которой до сих пор я только слышала. Жалко — просто потому, что девочка такая слабенькая, жалкая, беспомощная, еще не подозревающая, что можно пережить любое горе, даже нелюбовь матери… Я пережила и убаюкала это в себе, ведь на самом деле ни убить, ни изгнать эту беду не удается. Но можно научиться с ней жить…
Прижимаю ее голову только на мгновенье, но Даше этого достаточно, чтобы вцепиться в меня обеими руками. И опять этот горячечный шепот:
— Не отдавайте меня! Не отдавайте!
— Она не убьет тебя. Она тебя любит.
Я стараюсь говорить тихо, но внушительно, чтобы слова пробились к ней, совсем очумевшей от страха. Проводя рукой по волосам, пытаюсь снять ее дрожь, но Даша задирает голову:
— Вы сами знаете, что это неправда.
— Если мама иногда сердится на тебя, это еще не значит, что она тебя не любит.
Почему детям принято лгать? Внушать им понятие о несуществующей любви… Разве не честнее было бы признать, что ты не любишь своего ребенка? Ну, не любишь! Потому что разум у тебя не помутился после родов, и ты ясно видишь, какой это несимпатичный, вредный, крикливый, противный человечек, любить которого ничуть не естественней, чем любить сестру или брата, тоже — кровное родство, однако это встречается еще реже.