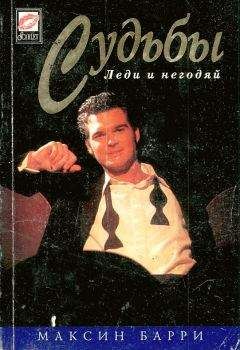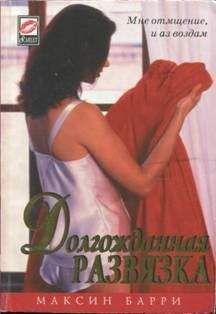Обойдя свой прицеп, Брин откинула задний борт и сдернула первую кипу сена. Тонкая веревка глубоко врезалась в ладони, защищенные холщовыми рукавицами, но она едва заметила это. Напрягшись, она подхватила тяжелую кипу и, опустив ее на землю, тут же взялась за вторую.
К тому времени, когда она выгрузила все десять кип, спина ее была в испарине, но Брин даже не остановилась, чтобы перевести дух. Поднеся первый тюк к ближайшей кормушке, она мягко, но решительно отодвинула локтем собравшихся овец и, достав из кармана перочинный нож, осторожно разрезала веревку возле узла. Веревку она смотала и сунула в карман, чтобы какая-нибудь овца не запуталась в ней, когда, толкаясь, животные набросятся на сено. Слегка разбросав его вдоль кормушки, она вернулась назад за следующей кипой.
Двигалась она неторопливо, с какой-то своеобразной, чуть угловатой грацией, которая обнаруживала в ней недюжинную силу. Покончив с сеном, Брин немного передохнула и не спеша почистила высокие сапоги о край колеса трактора. Затем встала носком на подножку и одним махом оказалась в кабине. Поправив очки на переносице, она запустила стрекочущий двигатель и двинулась к шоссе, крутя баранку своей неуклюжей машины.
Выехав на дорогу, Брин взглянула на часы. Управилась в самое время. Она приветливо помахала рукой старому мистеру Корнуэллу и его шести терьерам, которые попались ей навстречу, и усмехнулась, видя, как маленькие собачки возбужденно залаяли, оборачиваясь ей вслед.
Хмурое небо, покрытое свинцовыми низкими облаками, не обещало хорошей погоды, и это было очень досадно. Брин всегда гордилась тем, что живет в самой красивой из йоркширских долин, и не любила пасмурных дней. Зато в погожие дни не уставала любоваться ее зелеными лугами, посреди которых возвышались столетние дубы, рекой, словно серебристая нить опоясывающей окрестности, черепичными крышами и яблоневыми садами расположенных по соседству деревушек. Она была счастлива на ферме, которой они с отцом владели. До тех пор, по крайней мере, пока могли еще содержать ее…
Легкая дрожь пробежала вдруг по спине, заставив Брин закусить губу по старой привычке, которая возвращалась, если она бывала чем-то расстроена. Из дому она уехала сразу же после завтрака, когда почта еще не пришла, и было неизвестно, какие ее ждут дома известия…
Глубоко вздохнув, она свернула с шоссе на вымощенную булыжником грязную проселочную дорогу, которая вела домой, в Равенхайтс. Прежде она всегда с нетерпением ожидала почты — на одинокой заброшенной ферме это было единственным важным событием дня, — но с некоторых пор стала страшиться ее. А все из-за этого проклятого Джермейна. Кристофер М. Джермейн. Как ненавистно звучало для нее это имя.
Прилепившийся к склону пологого холма, впереди уже неясно вырисовывался Равенхайтс, его низкие приземистые строения; дом, в котором она родилась и жила. Тонкий дым из печной трубы поднимался к промозглому холодному небу. Как только трактор с грохотом вкатил во двор, Вайлет, их старая дряхлая овчарка, поднялась со своего любимого места возле сарая и заковыляла навстречу Брин, пока та, заглушив мотор, вылезала из кабины.
— Привет, старушка. Хочешь войти внутрь? — Брин ласково потрепала шелковистые собачьи уши и двинулась в дом, не обращая внимания на цыплят, искавших случайные зерна кукурузы в дворовой грязи.
В отделанной пластиком и застеленной линолеумом прихожей она сняла сапоги и повесила куртку на крючок, стараясь не глядеть на свое отражение в зеркале, висевшем напротив. Она и так знала, что ничего хорошего не увидит, — зачем же расстраивать себя еще больше?
Овчарка проковыляла за ней и направилась прямиком к очагу, возле которого и свернулась клубком с довольным вздохом. Ее многочисленные отпрыски охраняли овец на пастбищах на десятки миль окрест, а сама Вайлет уже заслужила отдых. Подумав об этом, Брин улыбнулась старой овчарке и бросила ей из вазы печенье.
Кухня была теплая и уютная. Стены бледно-желтые; их красила еще мать много лет назад, а Брин только слегка подновила недавно. Пол был покрыт пушистым ковром, который приятно согревал ее босые ноги, а дубовый стол в центре являл собой прочнейший образец старинной работы. На нем стояла вазочка с ранними нарциссами, которые Фрэд Джакомб выращивал в своей теплице и которыми он снабжал Брин в обмен на домашний хлеб ее выпечки. На окнах висели занавески с яркими маками, и такая же веселенькая льняная скатерть покрывала стол. Аромат тепла и съестного наполнял воздух, напоминая Брин о том времени, когда была жива мать, а сама она еще девочкой возвращалась домой на школьном автобусе и врывалась в кухню так бурно и радостно, что дрожал весь дом.
Она тряхнула головой и сняла зеленую вязаную шапочку, которую всегда надевала во время работы. Каскад густых каштановых волос обрушился на ее широкие плечи, и она небрежно откинула их за спину. Следовало бы пойти в холл и посмотреть почту, но у нее не хватило духу. Вместо этого она достала большую миску, набрала в чулане под лестницей картошки и, отнеся ее в раковину, принялась чистить, вздрагивая от холодных брызг льющейся из крана воды. Потом вымыла капусту и проверила, не готов ли большой кусок мяса с фасолью, который она поставила тушить, перед тем как уехать из дому.
Мелкий дождь назойливо барабанил в окна, и Брин вздохнула, подумав, что мужчины в такой холод вернутся замерзшие и надо бы в доме протопить. Разведя огонь в камине, она подбросила в печку на кухне еще несколько поленьев, а потом достала из стенного шкафа пылесос и принялась за уборку. Когда час спустя со двора донесся рокот возвращающихся с поля тракторов, еда была уже готова, а в доме царил полный порядок.
Отец вошел первым, как всегда.
— Привет! Как вкусно у тебя пахнет! — сказал он с порога, и Брин улыбнулась в ответ. Каждый день, всю свою жизнь он говорил эти слова — сначала своей матери, потом жене, а теперь вот ей, дочери.
— Я разожгла камин в гостиной, пап. Может, сначала согреешься?
Джон Виттейкер быстро взглянул на нее, нисколько не обманываясь ее небрежным тоном. Он знал, что у дочери, как и у него самого, тревожно сейчас на душе, хотя она и не подает виду. Тяжело ступая, он прошел через кухню и с кряхтеньем опустился в свое любимое кресло у огня. Никогда прежде он не ощущал себя таким стариком. Вошедшие вслед за ним Билл и Сэм, два его старших работника, уселись на диван и тоже вытянули ноги к огню. Их довольные лица выражали блаженство.
Посмотрев на них, Джон тут же отвел взгляд. Он чувствовал себя виноватым. Они имели право знать о нависшей над ними угрозе, но у Джона все не хватало духу сказать им об этом. Давным-давно его отец нанял их отцов, и Джон знал, как трудно будет им (ведь и тому и другому пошел уже пятый десяток) найти себе другую работу. Особенно здесь в округе, где безработица — привычный бич.
Черт бы побрал это правительство! И ЕЭС тоже. На кой черт сдался йоркширским фермерам этот Общий рынок? Они, Виттейкеры, жили здесь и управлялись со своей фермой больше четырехсот лет, и все у них шло как надо, слава Богу. А теперь… Внезапно Джон выпрямился в кресле и невольно приложил руку к груди. Резкая боль пронзила его, отдавая в левую руку. Он быстро взглянул на обоих мужчин, но, углубившись в свои мысли, они ничего не заметили.
После двух-трех глубоких вздохов боль понемногу отступила. Может, и обойдется. Джон легонько потер у локтя левую руку, словно прогоняя эту все чаще посещавшую его боль, и со вздохом перевел взгляд на огонь, пляшущий в камине.
В кухне Брин заварила чай и налила по кружке Робби и Ронни Петерсам, близнецам двадцати одного года, которые вместе с Сэмом и Биллом составляли штат Равенхайтса, а остальным принесла на подносе в гостиную. Беря свою кружку, Джон слегка улыбнулся дочери, отчего в уголках его добрых голубых глаз появились морщинки. Но тут же вновь помрачнел, и мысли его приняли прежний невеселый оборот. Что станет с ней, младшей из двух его дочерей, когда он умрет, а ферма будет потеряна? А это рано или поздно произойдет, тут уж ничего не поделаешь. Как тогда сложится ее судьба?
День, когда Брин родилась, он помнил так ясно, словно это случилось вчера. Бесконечно вышагивая по этой же самой комнате, пока акушерка кипятила чайники и собирала по всему дому полотенца, он молил Бога, чтобы все обошлось. А когда все наконец кончилось и акушерка позвала его наверх, к Марте, он с радостью и облегчением увидел ее сидящей на постели с ребенком на руках.
— Извини, Джон, — сказала она с бледной улыбкой, — но это опять девочка.
Чего ради Марта надумала извиняться, что произвела на свет девочку, которую они назвали Брайони Роуз, он так и не мог понять. Ведь дочурка стала его светом и радостью с того самого момента, как пришла в этот мир. Не то чтобы старшую, Кэти, он не любил, но все же Кэти была… не совсем то. А Брайони… С тех пор как она начала ходить и говорить, все стали замечать, что между ними какая-то особая связь, что Брайони Роуз и он, ее отец, родственные души.