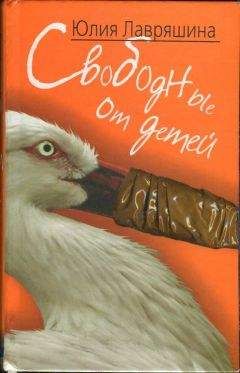Меня до вчерашнего дня не трогали, потому что я нахожусь как бы под защитой своей профессии: писатель сам не от мира сего, куда ему еще детей рожать?! А как живется всем этим офисным мышкам в белых блузочках, работу которых смешно считать делом жизни. Она не стоит того, чтобы отказываться от детей. Но у них свои причины держаться за свою свободу зубами, и должно их уважать. Даже пресловутое «просто не хочу». Как раз в этом переубедить невозможно. Хотя желание можно разбудить…
Я пытаюсь думать о завтрашней премьере спектакля, но мысли сбиваются на Рони. Даже эту девочку не я родила, а Линдгрен. Меня можно считать скорее русской крестной матерью. Тоже неплохо, но авторство мне не принадлежит, хотя все в восторге от того, как я сделала эту инсценировку: энергично, весело, ярко. И завлит, и режиссер, и директор — все довольны. А у меня самой чувство, будто я украла чужого ребенка и попыталась выдать за своего. Не оттого ли родилась идея искупления с передачей будущего младенца сестре?
— Господи, мне тошно! Мне так тошно!
Коротенький переулок пуст, то, что я заговорила вслух — не страшно. Не заговорила — завопила. И саму себя напугала, бросилась бежать, натыкаясь на стены, уже слившиеся с темнотой, на редкие фонари, подобно мне не желающие освещать жизнь. Как-то интуитивно, вслепую, нахожу дверь уединенного, вне Садового кольца, кафе. И уже оказавшись внутри, понимаю, что мне сейчас необходимо — напиться так, чтобы все несуществующие девочки утонули в одном стакане.
Публика меня не интересует, но то, что вокруг не малолетки, если не облегчает тяжести, то хотя бы не добавляет ее. Официантка заметила меня, теперь можно забиться в угол, она найдет и не даст мне уйти трезвой. В этом кафе я впервые, но, оглядевшись, обнаруживаю, что это место будто для меня создано: грубо сколоченные стеллажи не с муляжами книг, как чаще бывает, а с настоящими, потрепанными; на стенах таинственные фантазии абстракциониста, притягивающие взгляд, требующие разгадки, упоения цветом; сами стены — необработанный серый кирпич. Неизящные столы из темного дерева, старые стулья с высокими спинками и темно-красной обивкой, тускловатые светильники, вышедшие из моды торшеры с тряпичными абажурами. И маленькая сцена с забытыми инструментами, вселяющими надежду на живую музыку. Такое ощущение, что музыканты ушли перекурить… Может, так и есть. Прелесть простоты.
В такой обстановке следует пить или водку, или абсент. На последнее не решусь — галлюцинаций на сегодня более чем достаточно. Поэтому прошу официантку принести мне графинчик водки и стакан воды — никак не научусь пить, не запивая, не глуша рвотный рефлекс. Интересно, испытывают ли отвращение алкоголики в тот момент, когда глотают зелье? Не может ведь водка казаться вкусной…
Но я стараюсь не морщиться, чтобы не выглядеть этакой девственницей, которой и хочется, и колется. Водка начинает действовать, размягчая мозг, не сразу, я успеваю осмотреться. Остальные пришли компаниями или парами, но изгоем себя не чувствую, потому что я — наблюдатель. Скорее всего, никто даже не заметит моего присутствия, и это позволит мне осторожно снять слепки со всех лиц, рук — авось, пригодятся!
Слева от меня постаревший, раздавшийся демон, все с той же гривой, но потускневшим взором — на левом глазу бельмо. Мне кажется, он из нашего цеха: глаза смотрят каждый в свою сторону. Почему-то среди литераторов это часто встречается, хотя уникальности взгляда это их стихам не придает… С ним маленькая женщина, этакий воробушек, стриженая, вертлявая, с крошечным обиженным, немолодым личиком. Мне слышно, как он называет ее Надеждой, и повторяет это так часто, будто себе же и пытается внушить, что она и есть его надежда. Как в том анекдоте, когда со слезами: «Моя жена красивая, красивая…» Ее жаль. И его жаль. Эти люди не сделают друг друга счастливыми, потому что несчастливы и по отдельности, просто не умеют пребывать в другом состоянии. Они только умножат свое несчастье, соединившись.
Но этого я им не скажу. Они в том возрасте, когда уже пора научиться быть самодостаточными, счастливыми от общения с собой, своим интеллектом и душой. Тогда и другого они могут заинтересовать и увлечь. А если этого в тебе нет, значит, просто не дано, и цепляться за кого-то случайного бессмысленно. Ты можешь раствориться в нем, полностью отказавшись от своего «я», превратиться в чеховскую «душечку», но его тем самым ты перестанешь интересовать вовсе. Его могут привлекать твои обеды и поглаженные тобой рубашки, и он будет покорно жить на цепи этих маленьких привязанностей, но лишь до тех пор, пока его не позовет Настоящее.
Хотя, может, оно не встретится и ему… И вы умрете в один день, так и не отведав истинного счастья. Не познав, как сладко спорить за полночь, отстаивая свое, взращенное, но и пытаясь отыскать точки, где оно совпадет с тем, чем твой любимый напитался за годы до встречи с тобой. А потом закончить сражение в постели, где каждый из вас может оказаться и поверженным, и одержавшим победу. Все на равных. Все счастливы.
Только этим двоим не суждено познать такое, я уже вижу. Этот хмурый воробушек будет биться за собственную победу до потери пульса, как говорили мы в детстве. И вымотает демона, вынудит его бежать — прочь или в себя, это уже детали. Мне они неинтересны.
А справа — девичник. Только девицы перезрелые, пожалуй, постарше меня. Трое из четверых — блондинки. Длинные волосы то и дело откидывают, чуть ли не хлещут друг друга по лицу, но все улыбаются. Однако чувствуется, что улыбаются потому, что так положено при встрече с подругами, а не потому, что внутри что-то вспыхивает при виде их. Я начинаю улыбаться, когда вижу Леру. Даже когда думаю о ней.
На этом он и ловит меня.
— Ваша улыбка не мне адресована?
Чем меньше похож на Власа, тем лучше. У этого волосы какие-то пепельные, или при этом свете так кажется? Длинненькие, сзади до плеч висят, может, музыкант? Художник? Со всякими менеджерами знакомиться не люблю — о чем с ними говорить? Хотя с любым из них проще казаться личностью, а каждый художник самовлюблен до неприличия. Но тем и забавен. Хотя в компании веселее с артистами, у них всегда в запасе куча театральных баек, которые они умеют рассказывать, как никто. Может, следовало позвонить Власу? С его помощью легко восстановилось бы обычное положение вещей. И детские голоса перестали бы звучать в ушах…
Я убираю с лица улыбку. И он понимает без слов:
— Не мне. Извините, — он мнется, не уходит. — Но можно я все-таки присяду?
Киваю на щебечущих блондинок:
— Может, вам лучше взять правее?
Чуть поджав губы, он мотает головой:
— Не мое.
— А я, значит, ваше?!
— Мне кажется, я вас где-то видел.
Удерживаюсь, чтобы не сморщить нос:
«Фи, как банально!» Впрочем, мне ведь и хочется банального приключения на одну ночь. Я не ищу его, но не откажусь… Неужели не откажусь?
— Москва — город маленький, — пожимаю плечами.
Он охотно улыбается в ответ:
— Разрешите представиться? Денис Кириллов.
«Не диктора сын?» — машинально предполагаю я, и вглядываюсь в лицо, которое еще не успела изучить. Вроде, не похож…
— Можно было и без фамилии, — бормочу я и называю в ответ только имя.
«Если он сейчас скажет, что оно означает «жизнь» или что оно — редкое, пошлю его к чертовой матери!» — я слегка напрягаюсь в ожидании, но Денис не говорит ни того, ни другого.
— Поесть ничего не хотите?
— А что, похоже, что я пришла сюда поесть?
— Похоже, у вас есть повод напиться. И не с радости.
— Уж точно не с радости.
— Так я могу составить вам компанию?
Его вежливость начинает потихоньку бесить меня.
— Вы уже сели за мой столик, и я вас не выгнала, — берусь за свой графин, но Денис перехватывает инициативу.
— Позвольте я сам…
Мне смешно наблюдать за ним:
— Большой мальчик?
— Я сейчас закажу еще, — поспешно заверяет Денис, испугавшись, что я заподозрю его в том, что он хочет просто выпить за мой счет.
— Уж будьте добры!
Отвечаю с язвительной вежливостью, но водка уже делает свое дело, и я улыбаюсь этому новому лицу с несколько мелковатыми чертами, как и у меня самой. Судя по всему, он тоже до старости будет выглядеть подростком. Морщинистым, плешивым подростком. Душераздирающее зрелище!
Пока официантка и ему приносит водки, откуда-то возникают музыканты и вызывают к жизни балладу в духе Александра Иванова, заставляя меня размякнуть. Слабость у меня к его немудреным, печальным песням. Напиваться под них особенно хорошо, хотя до этого вечера не пробовала.
— Только не надо мне говорить, кем вы работаете и сколько у вас детей, — предупреждаю я.
— Нет?
Кажется, я уже испортила ему вечер. Похоже, именно об этом его и тянуло поговорить… О чем скорее — о работе или о детях? Кольца на пальце нет, наверное, разведен — страдающий «воскресный» папа. Такие мне не интересны.