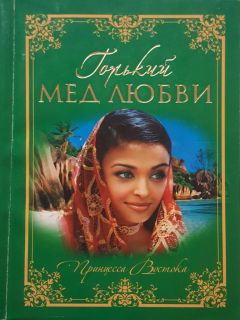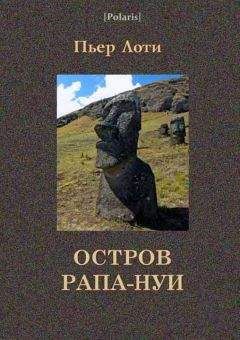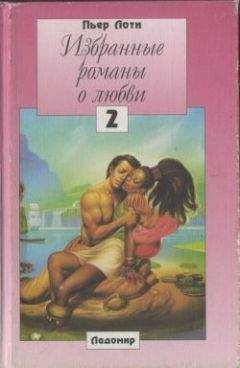Потом они втроем идут к Мери… Парни и девушки выглядывают из дверей, чтоб посмотреть на него; его находят красивым в этом иноземном костюме, с манерами, усвоенными им в Африке… Он показывает дяде Мери нашивки вахмистра, которые он наконец получил, и они производят неотразимое впечатление.
…Дядя Мери всегда был добрым; правда, в былые времена он частенько бранил Жана, но все же любил его. Жан был уверен, что надежды его не обманут… (Издалека смягчаются недостатки близких, они кажутся мягкими и добрыми, а их злоба и жестокость забываются.) К тому же невероятно, чтоб Мери не одумался, увидев, как они оба умоляют его о благословении; он, без сомнения, будет тронут и соединит дрожащую руку Жанны с рукой Жана… И какое счастье, какая прекрасная жизнь наступит тогда, какой рай откроется для него на земле!..
Жан не мог представить себя в деревенской одежде и, особенно, в простой сельской шляпе. Думать об этом было неприятно, и он не любил на этом задерживаться. Ему казалось, что под прежним смешным нарядом исчезнет гордый спаги и он перестанет быть самим собой. Здесь в этом красном костюме он узнал жизнь Африки, стал мужчиной; он любил все это: любил арабскую феску, саблю, лошадь, эту большую, забытую Богом, страну и пустыню.
Жан не знал, какое разочарование ожидает иногда моряков, солдат, спаги по возвращении в деревню, покинутую ими в юности, которую они представляли себе сквозь призму ностальгии. Увы! Какая тоска, какое однообразие и скука ждут на родине этих изгнанников!
Бедные спаги, сроднившиеся, как он, с этой страной, иногда вспоминали унылые берега Сенегала. Долгие прогулки верхом, свобода, ослепительный свет и бескрайний простор — их так не хватает, если ты привык, а потом этого лишаешься. У мирного очага ты мечтаешь о зное, палящем солнце и тоскуешь по пустыне.
Между тем Бубакар-Сегу, великий черный король, давал о себе знать в Диамбуре и Джиагабаре. В воздухе запахло войной: в Сен-Луи о ней говорили в офицерских кружках, толковали и обсуждали на тысячи ладов среди солдат спаги и моряков. Она стала злобой дня, и каждый надеялся на удачу — на повышение, чин или орден.
Жан, кончавший службу, собирался наверстать упущенное; он мечтал получить в петлицу желтую ленточку — орден за храбрость — и прославиться геройским поступком; хотел, чтоб спаги помнили его имя — в этом краю, где он столько пережил и перестрадал.
Между казармами, флотом и губернаторским домом ежедневно шла оживленная переписка. К спаги приходили большие пакеты с печатями и разжигали воображение людей в красных мундирах — они предвещали большую и серьезную экспедицию. Спаги точили свои боевые сабли и чистили амуницию со стаканами абсента в руках, шутя и весело болтая.
Были первые числа октября. Жан, с утра разносивший по разным местам служебные бумаги, шел с большим официальным пакетом по последнему адресу, во дворец губернатора. На длинной узкой улице, залитой солнечным светом, пустынной и мертвой, как улица Фив или Мемфиса, он увидел идущего навстречу человека, тоже в красном, который издали показывал ему письмо. Жан встревожился и ускорил шаг.
Это был сержант Мюллер, доставлявший спаги французскую почту, он прибыл час назад с караваном из Дакара.
— Тебе, Пейраль, — сказал он, протягивая Жану конверт со штемпелем его бедной дорогой родины.
Это письмо, которого Жан ждал целый месяц, жгло ему руки; но он не торопился его читать и наконец, выполнив все поручения, решил распечатать. Он подошел к решетке Управления и вошел в открытые ворота.
В саду было так же тихо, как и на улице. Ручная львица нежилась, как кошка, растянувшись на солнце. Под суровыми голубоватыми алоэ спали страусы. Полдень — могильная тишина, кругом ни души; на большие белые террасы легли недвижные тени желтых пальм.
Ища, кому передать пакет, Жан дошел до конторы, где увидел губернатора, окруженного высокопоставленными лицами колонии. В этот час полуденного отдыха здесь царило необычайное оживление; казалось, обсуждались вопросы величайшей важности.
Взамен принесенного Жаном пакета ему вручили другой, на имя командира спаги. Это был приказ к немедленному выступлению, который после полудня был официально объявлен по всем войскам Сен-Луи.
Когда Жан снова очутился на пустынной улице, он не вытерпел и трясущимися руками распечатал письмо. На этот раз оно было написано только матерью; рука ее дрожала сильнее, чем когда-нибудь, и бумага носила следы слез. Бедный спаги с жадностью пробежал его, и, когда кончил, у него потемнело в глазах, — прислонившись к стене, он схватился за голову. Приказ, врученный ему губернатором, был срочным; он благоговейно поцеловал имя старой Франсуазы и, шатаясь как пьяный, поплелся дальше.
Возможно ли? Все кончено, кончено навсегда! У него отняли невесту, с детства предназначенную ему родителями!
«Оглашение уже было; свадьба назначена через месяц. До последних дней я все еще сомневалась, сын мой; Жанна не навещала нас больше, а я не смела сообщить тебе, из боязни причинить страдания, так как мы бессильны что-то изменить. Мы в отчаянии. Вчера Пейралю пришла в голову мысль, о которой нам страшно вспомнить. Мы боимся, что ты не захочешь вернуться на родину и останешься в Африке.
Мы оба уже стары; Жан, дорогой мой сын, твоя старая мать умоляет тебя на коленях быть благоразумным. Если ты не вернешься к тому времени, когда мы тебя ждем, нам лучше умереть теперь же».
Несвязные, беспорядочные мысли теснились в голове Жана. Он стал считать дни… Нет, это еще не конец, еще есть время. Телеграф! Хотя, нет, о чем он думает! Между Сенегамбией и Францией телеграфа не существует. И что еще он мог им сказать? Если б он мог бросить все и уехать, умчаться на быстроходном судне, поспеть вовремя. Бросившись к их ногам, он умолял бы их со слезами, и они бы, наверное, смягчились. Но это так далеко… невозможно, ничего не выйдет! Все совершится раньше, чем до них долетит его вопль отчаяния.
Ему показалось, что железные руки сдавили его голову и страшными тисками стиснули грудь. Он остановился было, чтоб перечесть, но, вспомнив о срочном приказе губернатора, сложил письмо и пошел дальше.
Кругом царило великое спокойствие полдня. Ветхие мавританские дома молочными полосами белели на темной синеве неба. Порой из-за каменной стены до слуха долетала заунывная, жалобная песня негритянки; голые черные негритята в коралловых ожерельях спали у дверей, выставив животы на солнце, и казались темными пятнами среди ослепительного света. Ящерицы сновали под ногами, забавно вертя головами и чертя хвостами фантастические зигзаги, напоминавшие арабскую живопись. Далекий стук колотушек — созывают на кус-кус — однообразный, как сама тишина, несся с Гет-н’дара и замирал в тяжелой знойной атмосфере полдня…
Спокойствие спящей природы так не соответствовало возбуждению бедного Жана, что он еще сильнее чувствовал свое горе; оно обессиливало его, как физическая боль, и стесняло дыхание, как свинцовый саван. Эта страна представилась ему огромной могилой. Как будто он очнулся от тяжелого пятилетнего сна. Его переполняло возмущение — бунт против всех и вся!.. Зачем оторвали его от родной деревни, от матери и загубили его молодость в этой стране смерти?! По какому праву его превратили в спаги, сделали наполовину африканцем, несчастным отщепенцем, забытым всеми, и, наконец, отняли невесту!..
Им овладела бешеная ярость, но не было слез. Ему требовалось излить ее на кого- или что-нибудь — мучить, душить и убивать подобных себе… Но кругом ни души — тишина, зной и песок.
Увы, в этой стране у него ни друга, ни товарища, с кем можно поделиться горем. Боже мой, какое одиночество!.. совсем один на свете!..
Жан добежал до казарм и бросил первому попавшемуся доверенный ему пакет, потом вышел и быстро зашагал куда глаза глядят, чтобы успокоиться. Он прошел Гет-н’дарский мост и свернул к югу по направлению к Берберии, как в ту ночь, когда четыре года назад он в отчаянии покинул дом Коры… Но в этот раз его гнало прочь самое глубокое и сильное отчаяние, на какое способен мужчина, — отчаяние разбитой жизни…
Он долго шел к югу, и, когда Сен-Луи и негритянские деревни скрылись из вида, сел, обессилев, у подножия возвышающегося над морем песчаного холма. Мысли путались у него в голове, палящее солнце сводило с ума…
Он понял, что никогда еще не был здесь, и стал рассеянно осматриваться.
На холме теснились друг к другу большие столбы, испещренные надписями на языке священников Магреба. В тени белели груды вырытых шакалами костей, меж ними пробивалось несколько веток молодой зелени, точно случайно здесь забытые. Среди бесплодного запустения через старые черепа пробирался вьюнок, обвивая мертвые руки и ноги и покрывая их розовыми цветами…