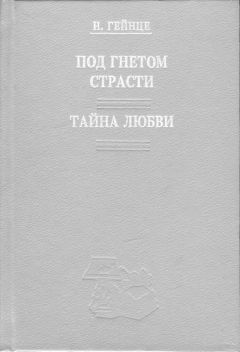Такое состояние можно сравнить с состоянием человека, несколько дней предававшегося безумной оргии и затем отдохнувшего от угара вина и страсти.
Мысль, что он губит себя и ее, внезапно посетила его и заставила содрогнуться.
Припоминая их отношения в селе, во время пребывания ее гостьей в его убогой избушке, затем в Киеве, он не мог не заметить, что в обращении ее с ним, особенно за последнее время, было более теплоты и сердечности, нежели к человеку, к которому чувствуют лишь благодарность за исцеление дочери.
Что если она тоже любит его?
Как ни сладка, как ни обольстительна была эта мысль с первого взгляда, холодный пот выступил на его лбу при перспективе могущих произойти от этого последствий.
Теперь он страдает один, тогда эти страдания его лишь удвоятся: он будет страдать ее страданиями.
Их разделяет не только закон, не только мнение света, но внутреннее чувство долга, которое — он чувствовал это — в ней, как и в нем, развито преимущественно над другими чувствами.
С точки зрения закона существует развод. От мнения и пересудов света можно уехать за границу, можно, наконец, пренебречь этими мнениями и пересудами, но куда уйдешь от внутреннего сознания совершенного преступления, под каким небом найдешь от него убежище?
Их внутреннее я останется с ними и отравит всецело все мгновения их преступной любви.
Так думал Федор Дмитриевич Караулов и инстинктивно чувствовал, что так же должна думать и графиня Конкордия Васильевна Белавина.
Он и не ошибался.
Все эти мысли привели его к решению, что свидание их будет последнее. Отказать себе в этом наслаждении, о котором он мечтал со дня ее отъезда из Киева, он был не в силах, но потом он найдет в себе силы одолеть искушение.
«Потом… — это слово грустной нотой отозвалось в его сердце.
Бог пошлет мне смерть, и моя тайна исчезнет вместе со мною, не уронив меня в моих собственных глазах и не унизив в ее».
С таким решением он приехал в Петербург и, действительно, только один раз провел несколько часов у Белавиных.
Его встретили и муж, и жена с распростертыми объятиями, хотели взять даже слово быть ежедневным гостем, но он отговорился серьезностью работы по экзаменам и защите диссертации и, взглянув последний раз на графиню Конкордию, подал ей руку.
Она крепко пожала ее.
Граф Владимир Петрович проводил его до передней.
— Чудак, неужели у тебя не найдется времени завернуть хоть раз в неделю пообедать… — сказал он.
— Прости, Владимир, но у меня начинается страда и едва ли будет свободная минута. Ведь это на всю жизнь.
Граф Белавин с недоумением пожал плечами.
— Ну, хоть приезжай в день окончания мытарств. Жена и я, впрочем, будем слушать защиту тобою диссертации — она уже это решила.
— Тогда, конечно, не премину зайти… — ответил Караулов и ушел, подавив тяжелый вздох, как дань вечной разлуке.
Читатель уже знает, что он блестяще сдал докторский экзамен и не менее блестяще защитил диссертацию, одушевленный в последнем случае присутствием графини Конкордии, которая привела свое решение в исполнение и была в зале академии, но не с мужем, а с Ольгой Ивановной Зуевой.
И та, и другая громко аплодировали «спасителю Коры», как называла она Федора Дмитриевича.
Последний сделал вид, что волнение, которое, естественно, чувствует каждый диссертант, помешало ему увидеть их в публике, а к ним он не заехал и по «окончании мытарств», как выразился граф Владимир Петрович.
Он, как уже известно, вскоре по получении степени доктора медицины, уехал на борьбу с холерой, и начало нашего правдивого повествования застало его по возвращении из этой самоотверженной и опасной поездки.
Прошло уже около двух лет со дня последнего визита Федора Дмитриевича к Белавиным.
Ему казалось, что он закалил свое чувство и способен выдержать искус свидания, а потому и находился в раздумье, идти или не идти с визитом к его старинному другу, когда этот последний как из земли вырос перед ним в номере гостиницы «Гранд-Отель».
Граф Владимир Петрович Белавин, наконец, кончил чуть ли не десятую пикантную историю из жизни светского и полусветского Петербурга и тут только заметил, что на лице его друга далеко не выражается особого внимания и интереса ко всем его россказням.
— Ба! — воскликнул он. — Я, кажется, не сумел заинтересовать тебя, я совершенно позабыл, что ты человек иного мира и смотришь на всех людей, как на объектов твоей науки, которая одна для тебя и жена, и любовница.
— Это не совсем так, — заметил Федор Дмитриевич, — не другого мира, а другого круга, и я не знаю никого из тех, о которых ты говоришь, даже понаслышке. Согласись, что не могут же меня интересовать похождения людей, мне вовсе неизвестных.
— Даже с точки зрения медицинской… — пошутил граф.
— Я не психиатр… — ответил Караулов.
— Хорошо сказано… Давай, впрочем, говорить о тебе… Я, право, не знаю, не понимаю и не могу понять, зачем ты предпринял сейчас же, после блестяще полученной степени доктора медицины, эту поездку в центр очага страшной болезни, рискуя собой, своей жизнью и той пользой, которую ты мог приносить в столице.
— В столице?.. — с недоумением воскликнул Федор Дмитриевич…
— Ну да, в столице… За практикой дело бы не стало… Наконец, я имею связи в свете и мог бы быть тебе полезным.
— Полезным… Чем?..
— Как чем? Я, конечно, не преминул бы рекомендовать тебя всюду… несколько удачных излечений, и карьера доктора сделана.
Караулов чуть заметно улыбнулся.
— Благодарю тебя… но… повторяю, я не психиатр.
— Что ты хочешь этим сказать теперь? — спросил граф.
— Да то, что при условиях жизни богатых классов главнейший процент их заболеваний относится к области нервных и психических болезней.
— Ты хочешь сказать, иными словами, что мы все сумасшедшие.
— Нет, русский народ определяет эти болезни иначе: «с жиру бесятся».
— Отчасти ты прав… — улыбнулся Владимир Петрович.
— Но, однако, это в сторону… Едем.
Федор Дмитриевич на минутку смутился.
Неуверенность в себе, в своих силах перенести это свидание мгновенно проснулась в нем, но он пересилил себя и почти твердым голосом, вставая вместе с графом с кресла, произнес:
— Едем.
Отказаться было нельзя, да он и не хотел отказываться.
Когда посещение дома графа Белавина зависело от его воли, он колебался и раздумывал, откладывал его до последнего времени, тая, однако, внутри себя сознание, что он все же решится на него, теперь же, когда этим возгласом графа Владимира Петровича: «Едем!» — вопрос был поставлен ребром, когда отказ от посещения был равносилен окончательному разрыву с другом, и дом последнего делался для него потерянным навсегда, сердце Караулова болезненно сжалось, и в этот момент появилось то мучительное сомнение в своих силах, тот страх перед последствиями этого свидания, которые на минуту смутили Федора Дмитриевича, но это мимолетное смущение не помешало, как мы знаем, ему все-таки тотчас же ответить:
— Едем.
«Я уеду опять вдаль, и может быть очень надолго, и там сумею окончательно закалить себя. Свидание в продолжении нескольких часов будет лишь лучом света в окружающем меня мраке, не ослепит же меня этот луч».
Так думал Караулов с помощью позванного слуги надевая шубу, и затем следуя за графом Белавиным по коридору и лестнице на подъезд гостиницы, в котором швейцар накинул на плечи графа Владимира Петровича великолепную шинель на собольем меху с седым, камчатского бобра, воротником.
Парные сани ожидали их у подъезда.
Приятели сели.
— Домой! — крикнул кучеру граф.
Великолепные, серые в яблоках лошади красиво тронулись с места и понеслись крупной рысью.
Сердце Федора Дмитриевича усиленно билось.
Одна мысль быть подле графини Конкордии наполняла все его существо таким трепетно-радостным чувством, что он боялся признаться в нем самому себе.
Но эта любовь не вредила дружбе.
Глубокое чувство, которое он питал к жене, казалось заставляло его смотреть сквозь пальцы на недостатки ее мужа — своего друга — и укреплять свою к нему дружескую привязанность.
Мало людей, способных на такое самоотвержение.
Караулов принадлежал к числу этих немногих.
Графиня Конкордия Васильевна встретила мужа и гостя в маленькой гостиной, той самой гостиной, которая была театром первого супружеского разрыва.
С очаровательной приветливой улыбкой протянула она руку Федору Дмитриевичу.
— Сколько лет, сколько зим!.. — воскликнула она.
В этом банальном возгласе никто бы не мог угадать охватившего ее внутреннего волнения.
Притворство, доведенное до художества, — вот сила слабого пола против сильного.