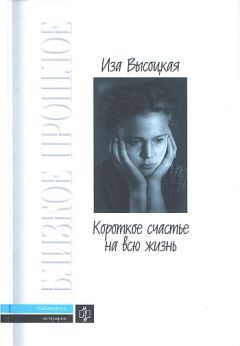— Перестань, перестань, Изабель. Я знаю все, что можно сказать. Но раз уже зло сотворено, не порти нам остального.
Надо было все-таки возвращаться, и Морис отвез меня домой по той же дороге, с тем же серьезным видом.
Но все его жесты стали мягче, увереннее. Пока что победил он: я тоже желала лишь одного — молчания. Наверное, мы были далеки от того жаркого сообщничества, того безразличия двоих к остальному миру, в котором находит успокоение бурная страсть, независимо от того, имеет она право на существование или нет. Наше совместное одиночество по-прежнему было поединком, прерываемым ненадежным перемирием, когда Морис терял свое превосходство и пытался защититься от моих укоров, снова потопляя их в блаженстве. Но таким образом ему удалось заставить замолчать во мне то, что еще оставалось от вчерашней девочки, задыхающейся от своего прекрасного стыда, ошеломленной внезапным обретением целомудрия вместе с этой острой благодарностью, этой нежностью всей ее кожи, этим наслаждением дышать в одном ритме с другим телом, благодаря которому ей только что открылась настойчивость ее собственного. Он добился своего: я на самом деле стала его любовницей. Я более не могла пребывать в неведении того, что толкнуло меня в его объятия, и, стоя на краю пропасти, которая, какой бы волшебной она ни казалась временами, все-таки оставалась пропастью, испытывала только одно желание: отринуть всякие мысли, предвкушать, ждать, закрыв глаза, сомкнув объятия.
Морис, впрочем, тоже. Ни его серьезность, ни его спокойствие не могли ввести меня в заблуждение: у каждого своя маска. Оставив ужимки для других, он выбрал себе личину безмятежности; он прикрепил ее к своему лицу с легкостью, приобретенной с привычкой; и надо было хорошо его знать и пристально на него смотреть, чтобы заметить в непростые для него минуты усилие, с каким он удерживает эту маску, когда на его висках обозначались две явственные морщинки, похожие на веревочки.
* * *
Эти морщинки пролегли до самых ушей, когда он в последний раз повернул руль, проезжая за ограду Залуки. Затем ему только с трех попыток удалось въехать задним ходом в гараж, где он задержался, засунув голову под капот, чтобы проверить уровень масла и уровень жидкости в аккумуляторе. Возможно, он надеялся, что я уйду без него и теперь, когда он придал мне мужества, отплачу ему за заботу, избавив от сомнительной обязанности вернуть матери заблудшую овечку. Но я не отходила от него ни на сантиметр. И труся, и ерепенясь, я думала о том, что он должен бы предложить мне сбежать, устроить скандал, предоставив мне отказать ему в этом. Наконец он выпрямился, молодец молодцом, и сказал:
— Пошли!
В прихожей я услышала, как Нат хлопнула створками буфета, крича на Берту:
— Ты опять слопала варенье! Не отпирайся, я знаю, что это ты…
По крайней мере, я смогла определить ее местонахождение. Я на цыпочках прошла мимо двери, считая, что будет проще, раз уж я уехала, не попрощавшись, вернуться, не поздоровавшись, не подставляясь под ее упреки и не отдавая себя на ее суд. Вот она я: ухожу, прихожу, как ни в чем не бывало, и если и забываю о своей маленькой семье, то лишь ради непомерной работы, так что уж извините! Не останавливаясь, я поднялась по лестнице, Морис — след в след за мной. Но наверху он схватил меня за руку.
— Тебе не кажется, — прошептал он, — что нам лучше зайти к твоей матери по очереди? Я бы не хотел, чтобы она подумала, будто мы в сговоре…
«А еще врать ей передо мной! А еще устраивать мне представление из ласк, обязательных для тебя!» — мысленно добавила я, довольная тем, что чувствую себя менее миролюбивой и в свою очередь застигла его в минуту слабости. Наши взгляды встретились, он понял, расправил плечи и намеренно вошел первым, проворчав:
— Пошли, дурочка!
Но его плечи тотчас ссутулились. Мама воскликнула:
— Ах, вот и вы оба! Совсем меня забыли?
Я бросилась к ней, вдруг избавившись от всех своих страхов. Мне не приходилось краснеть перед кем бы то ни было за это чувство. Мне не приходилось притворяться, боясь, что тот мужчина обидится на знаки любви, выказываемые этой женщине. Я могла целовать мою мать губами, еще влажными после другого поцелуя. А Морис, удерживаемый моим присутствием, не мог этого сделать. Он даже не смел вымолвить привычное «Добрый вечер, дорогая», ставшее двусмысленным. Он неловко смотрел, как мы с мамой милуемся, с трудом выдавливая из себя улыбку, в которой читались все его опасения. Ведь мало того, что он не чувствовал себя в силах быть пристойным с одной, чтобы это не выглядело непристойно для другой; он наверняка тоже заметил, как трудно маме дышать: она побагровела, со свистом выдыхала воздух, и он, наверное, задавался вопросом о том, что же ему думать об этой дочери, которая еще утром терзалась муками совести, а теперь мурлыкала на груди своей дорогой соперницы.
— Извини меня, Изабель, — сказал он. — У меня была запланирована встреча, из-за которой нам пришлось уехать очень рано. Ты еще спала.
— Ты не говорил мне об этой встрече, — сказала мама, и ее взгляд метнулся ко мне, ища подтверждения.
Но от того, что крылось под словом «встреча», кровь бросилась мне в лицо. При мысли о том, как мама истолкует мое смущение, румянец стал еще гуще, а Морис в довершение всего торопливо уточнил:
— Важное дело о наследстве. — И добавил: — Мне, кстати, надо пойти над ним поработать.
И смылся, предатель! Никто лучше меня не мог понять, что в этом положении было для него нестерпимо и чьи чувства он хотел поберечь; но я, неблагодарная, упрекала его за небрежность, проявленную к чувствам мамы, и злилась на него так же сильно, как если бы он пожертвовал моими и отказался таким образом отдать предпочтение девице, полностью, даже слишком уверенной в своей победе, ощущая при этом пугающую радость, притаившуюся в самом черном уголке ее души. Поскольку смущение не поощряет воображение, я могла только продолжать лизаться с мамой.
— Бедный Морис! Как же ему нелегко. Он делает все, что в его силах, но уже начинает уставать, я же вижу, — вздохнула мама.
Из предосторожности я уткнулась носом в сгиб ее руки. Прикинуться глупенькой, ласковой девочкой было моим единственным спасением, и я зарылась еще глубже, когда она добавила:
— Хорошо хоть ты все время рядом с ним! Иначе я не была бы спокойна.
Ни на секунду я не подозревала ее в том, что она подозревает меня. Но ее доверие хватало меня за горло, я понимала, что отныне каждое слово будет бить, ранить, принимать двойной смысл, жестокий для кого-то из нас. Я впилась ногтями в одеяло, когда она провела рукой по моим волосам, и вспомнила — Бог знает почему, — что они рыжие. Затем жалость, нахлынув волной, подняла меня на своем гребне и бросила к этому голосу и этому взгляду, продолжавшим струить на меня нестерпимую ключевую воду.
— Конечно, с таким видом, как у меня сейчас, нечего строить иллюзии! — говорила мама. — И Морис будет не так уж виноват…
Не так уж виноват! Однажды я тоже так подумала. Я больше не могла этого допустить, подло уцепившись за этот предлог — самый близкий и самый удобный. Меня выворачивало наизнанку от досады. Женщина предает себя, имея такое слабое и одновременно такое великодушное представление о мужчинах! Напрасно я говорила себе, что подобная снисходительность, подвергнутая испытанию правдой, тотчас взорвется криками, — я не могла ее выносить. К тому же зачем мне все это говорят, так вдруг и именно сейчас? Что кроется за этими словами? Ужасная догадка? Или обычные плутни больного человека с разыгравшимся воображением, которому хочется вызвать тебя на откровенность? Надо положить этому конец, причем немедленно. Ни сцен, ни криков, ни слез, ни причитаний — вот моя задача. Я выпрямилась и нашла искренний оттенок в голосе — голос есть, уже хорошо, — чтобы повести тяжелое дело нашего адвоката.
— Послушай, мам, прошу тебя, у нас и так забот полон рот, а ты еще новые выдумываешь. Выбрось из головы эти дурацкие мысли.
— Ты так думаешь? — спросила она.
Ее рука соскользнула с моих волос, медленно провела по моему подбородку. Ласка для наивной девочки! Ей не нужно было говорить мне того, о чем она думала. Хорошая девочка эта Иза, правда? Слишком юна, чтобы видеть дальше своих чересчур коротких ресниц, слишком мила, чтобы делать больно своей маме, даже если она случайно что-то заметила, но и слишком неумела, слишком возбудима малейшим секретом, чтобы смолчать о нем, не сморщив рожицы. Раз она так сильно — и так неубедительно — протестует, значит, не произошло ничего особенного, но что-то все-таки было: случайные посетительницы, чересчур миловидные клиентки, принимаемые с излишней предупредительностью, жалкая ложь вокруг жалких искусов — в общем, ничего страшного, но знак, предупреждение, которое следует учесть, продолжая использовать эту девочку, чей носик, как и раньше, когда она лгала, может служить настоящим барометром… Бедная мама! Женщина до мозга костей, она была матерью до глубины души и пала жертвой привилегии всех матерей, состоящей в том, чтобы не догадываться ни о чем, что происходит с их взрослыми дочерьми, и все еще видеть этих ангелочков в их перышках, тогда как теми уже давно набиты уродливые подушки! Жгучий стыд, нахлынувший на меня с новым приливом нежности, вновь принялся меня терзать. К счастью, мама щелкнула языком и сказала: