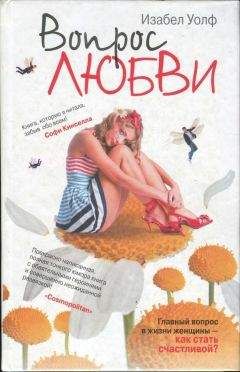Миссис Белл поставила чашку.
— Отец Моник был мечтательным, довольно непрактичным человеком. Он каждый день ездил на велосипеде в Авиньон, где работал бухгалтером. Ее мать оставалась дома и присматривала за братьями-близнецами Моник — Оливье и Кристофом, которым тогда было по три года. Помню, однажды Моник приготовила настоящий ужин, хотя ей исполнилось всего десять лет. Она сказала мне, что научилась готовить, когда ее мать два месяца была прикована к постели после рождения близнецов. Моник оказалась хорошей поварихой, хотя, помню, хлеб мне не слишком понравился.
Тем временем… шла война. Мы, дети, мало что знали об этом, поскольку телевизоров не было, радиоприемников почти тоже, а родители по мере сил берегли нас от горестных известий. Они почти не говорили о войне в нашем присутствии, жаловались только на нормирование продуктов — отец в основном сокрушался, что очень трудно достать пиво. — Миссис Белл снова замолчала. — Однажды летом сорок первого года, а к тому времени Моник стала моей близкой подругой, мы с ней пошли погулять. Прошли пару миль по старой дороге и набрели на разрушенный амбар. Мы вошли в него, болтая об именах. Я сказала, что мое имя — Тереза — мне не нравится, кажется слишком обычным. Лучше бы родители назвали меня Шанталь. И спросила Моник, нравится ли ей ее имя. К моему удивлению, она страшно покраснела, а затем призналась, что Моник не настоящее ее имя. А на самом деле ее зовут Моника — Моника Рихтер. Я была… — миссис Белл покачала головой, — поражена. По словам Моник, ее семья приехала в Париж из Мангейма пять лет назад, и отец сменил их фамилию и имена, дабы они лучше вписались в новую обстановку. Он выбрал фамилию Ришелье в честь знаменитого кардинала.
Миссис Белл снова посмотрела в окно.
— Когда я спросила Моник, почему они покинули Германию, она ответила, что там семья не чувствовала себя в безопасности. Сначала она отказывалась объяснить причину, но я нажала, и Моник призналась, что они евреи, но никогда никому не говорили об этом и постарались замести следы. Потом она заставила меня поклясться хранить ее тайну и не рассказывать о ней ни одной живой душе, иначе нашей дружбе придет конец. Я, конечно, согласилась, хотя не могла понять, почему надо скрывать еврейское происхождение — евреи жили в Авиньоне испокон веков; в центре города стояла старая синагога. Но если Моник так хочет, я буду уважать ее желание.
Миссис Белл снова принялась теребить пальто, гладить его рукава.
— Тогда я решила поделиться с Моник собственным секретом. И призналась, что недавно влюбилась в мальчика из нашей школы по имени Жан-Люк Омаж. — Губы миссис Белл сжались в тонкую полоску. — Помню, выслушав меня, Моник словно смутилась. Потом она заметила, что он, похоже, хороший мальчик и к тому же симпатичный.
Глаза миссис Белл снова обратились к окну.
— Время шло, мы изо всех сил игнорировали войну и радовались, что живем в южной «свободной» зоне. Но однажды утром — в конце июня сорок второго года — я застала Моник очень расстроенной. Оказалось, она получила письмо от Мириам, где та писала, что, как и все евреи в зоне оккупации, должна теперь носить желтую шестиконечную звезду, которую ей пришлось пришить к левой стороне жакета. В центре было одно только слово — «Juive»[12]. — Миссис Белл поправила лежавшее на коленях пальто, продолжая его поглаживать. — С этого времени я стала интересоваться войной. По ночам сидела под дверью комнаты родителей — они тайком слушали передачи из Лондона по Би-би-си. Как и многие другие, отец купил наш первый радиоприемник именно для этой цели. Помню, когда звучали сводки событий, папа издавал восклицания, полные отвращения или отчаяния. Из одной передачи я узнала, что для евреев в обеих зонах теперь существуют специальные законы. Им запрещалось служить в армии, занимать важные правительственные должности и покупать недвижимость. Они должны были соблюдать комендантский час, а в Париже ездить только в последнем вагоне метро.
На следующий день я спросила маму, почему такое происходит, но она ответила лишь, что мы живем в трудное время и мне лучше не думать об этой кошмарной войне, которая скоро кончится — grace à Dieu[13].
Поэтому мы пытались жить «нормальной» жизнью. Но в ноябре сорок второго все изменилось. Двенадцатого ноября мой отец прибежал домой раньше обычного и сказал, что видел двух немецких солдат с автоматами, прикрепленными к мотоциклам, которые стояли на главной дороге, ведущей от нашей деревни к центру города.
На следующее утро, как и многие другие, мои родители, брат и я пошли в Авиньон и с ужасом увидели немцев рядом с их блестящими черными «ситроенами», припаркованными рядами у Папского дворца. Немецкие вояки стояли у ратуши и разъезжали по улицам в бронированных автомобилях в шлемах и защитных очках. Нам, детям, они казались смешными инопланетянами — и я помню, как мои родители сердились на нас с Марселем, когда мы показывали на них пальцами. Они велели нам не замечать их, словно их тут нет. И добавили, что если так поступят все жители Авиньона, то немецкое присутствие нас не затронет. Но мы с Марселем знали: это всего лишь бравада, «свободной» зоны больше не существует, и теперь все мы sous la botte[14].
Миссис Белл помолчала.
— С тех пор Моник отдалилась от меня и стала осторожной. Каждый день после школы сразу направлялась домой. Она больше не играла со мной по воскресеньям, и меня не приглашали к ним в гости. Я обижалась, но когда попробовала поговорить с ней, она просто сказала, что у нее теперь меньше свободного времени, поскольку надо помогать маме по дому.
Спустя месяц я стояла в очереди за мукой и услышала, как мужчина впереди меня жаловался, что теперь на удостоверениях личности и продуктовых карточках всех евреев в округе стоит штемпель «еврей». Человек, который, как я поняла, сам был евреем, назвал это ужасным оскорблением. Три поколения его семьи жили во Франции — и разве он не сражался за нее в Первую мировую? — Миссис Белл прикрыла свои бледно-голубые глаза. — Помню, он потряс кулаком в сторону церкви и вопросил, куда подевалась надпись «Liberté, Égalité et Fraternité». A я наивно подумала: «По крайней мере его не заставляют носить звезду, как это делает Мириам, — это было бы… ужасно». — Миссис Белл посмотрела на меня и покачала головой. — Я не понимала, что желтая звезда куда предпочтительнее штампа на официальных бумагах.
Она на мгновение закрыла глаза, словно воспоминания утомили ее. Затем открыла их и уставилась в пустоту.
— В начале сорок третьего, примерно в середине февраля, я увидела Моник у школьной калитки — она увлеченно разговаривала с Жан-Люком, который теперь был красивым пятнадцатилетним парнем. Он покрепче затянул у нее на шее шарф — было очень холодно, — и я поняла, что она ему очень нравится. Я видела, что и он нравится ей — она улыбалась ему, не обнадеживающе, но приветливо и… полагаю, с некоторым смущением. — Миссис Белл вздохнула и покачала головой. — Я по-прежнему сходила по нему с ума, хотя он совершенно не обращал на меня внимания. Какой дурой я была, — горестно добавила она. — Какой дурой. — И стукнула себя в грудь, словно пыталась причинить боль. Когда она продолжила, ее голос дрожал: — На следующий день я спросила у Моник, нравится ли ей Жан-Люк. Она взглянула на меня внимательно и печально и сказала: «Тереза, ты не понимаешь», — и это подтвердило мои подозрения. Я вспомнила ее реакцию на мой рассказ о своем увлечении. Моник было неловко, и теперь я знала почему. — Миссис Белл снова постучала по груди. — Но она была права — я не понимала. А если бы поняла… — покачала она головой. — Если бы только поняла…
Миссис Белл немного помолчала, собираясь с мыслями, затем продолжила:
— После школы я прибежала домой в слезах. Мама спросила, почему я плачу, но я постеснялась рассказать ей о случившемся. Она обняла меня и велела вытереть слезы, поскольку у нее есть для меня сюрприз. Пошла в угол комнаты, где шила, и принесла пакет. В нем лежало очаровательное маленькое шерстяное пальто, синее, словно небо ясным июньским утром. Я надела его, и она поведала, как стояла в очереди за материалом пять часов и шила его по ночам, когда я спала. Я обняла маму и воскликнула, что пальто мне ужасно нравится и я сохраню его навсегда. Она рассмеялась: «Нет, глупышка, не сохранишь». — Миссис Белл слабо улыбнулась мне. — Но я сохранила.
Она погладила лацканы и нахмурилась.
— Однажды в апреле Моник не пришла в школу. На третий день я спросила учительницу, где она, но та ответила, что не знает, однако уверена: моя подруга скоро появится. Потом начались пасхальные каникулы, и я по-прежнему не видела Моник и приставала к родителям с вопросом, куда она пропала, но они посоветовали мне забыть о ней — у меня, мол, появятся новые подруги. Но я хотела видеть Моник и на следующее утро побежала к ее дому. Я постучала в дверь, но никто не вышел. Посмотрела в щель между ставнями и увидела на столе остатки еды. На полу валялась разбитая тарелка. Поняв, что они уходили в ужасной спешке, я решила немедленно написать Моник. Села у колодца и стала сочинять в уме письмо к ней и тут поняла, что не имею ни малейшего понятия, где она. Я почувствовала себя просто ужасно…