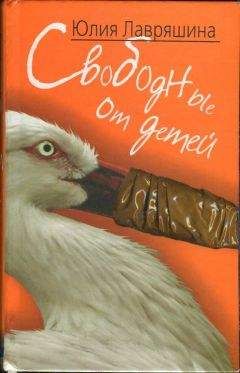В тебе не было этой примитивной мужской извращенности, тебе никогда не хотелось растлить ребенка. Долгое время мы вообще оставались только учителем и ученицей, потом стали чувствовать себя почти на равных, только один из нас любил рассказывать, а второй — слушать. Я вбирала твои слова, как пересохшая почва воду. В моих детстве и юности не было человека, который так говорил бы со мной, так охотно напитывал бы меня всем, что знает сам. Я выпила тебя. Я наполнилась тобой. И это сделало меня женщиной, которая наконец вызвала в тебе желание. Ты не хотел меня, пока я казалась тебе талантливой, но неотесанной девчонкой. Смог бы ты полюбить меня сегодняшнюю, вновь пересохшую от тоски? По тебе…
* * *
Я затащила Леру на положенный после премьеры фуршет. Ей всегда хотелось затесаться в артистическую среду, но, кроме меня, ее некому было ввести в этот круг.
— Это, конечно, не ваша великосветская вечеринка, — сразу предупреждаю я. — Но с актерами весело.
Правда, на этот раз, оказывается, не так уж и весело — все устали. Даже Влас с его неуемной энергией. На меня он демонстративно не обращает внимания, даже не поздоровался, зараза, когда я пришла. Но это лишь забавляет меня — разве можно обижаться на Малыгина с его шутовской мордахой? Он из шкуры вон лезет, кокетничая со случайными дамами вроде Леры, но не с ней, конечно, это было бы уж перебором.
— Какой он все-таки дурак, — бормочу я.
Впрочем, не так уж и забочусь, чтобы Влас не услышал. Мы стоим у стола, а Малыгин с очередной жертвой расположился позади нас на изрядно потертом диване. Она вытянула ноги, обутые в туфельки на тонких каблуках, и когда я взглянула мельком, то показалось, что я вся ростом с эти ноги. Влас уже наползался по ним взглядом до того, что скоро штаны намочит, но почему-то не торопится увезти девицу к себе в Бибирево или хотя бы утащить в гримерку. Мне не нужно объяснять почему: сейчас для него главный кайф в том, что его подвиги совершаются у меня на глазах. Это такое ребячество… Но именно способностью к этому Влас и нравился мне.
— Всегда было заметно, что ты его не любишь, — тихо откликается Лера. — Что у вас было? Просто секс?
— А этого мало?
— Вообще-то мне хотелось бы…
— Лерка, — обрываю я, ткнувшись своим фужером в ее, — запомни, радость моя: то, чего хочется тебе, может быть абсолютно по барабану мне.
Она вдруг спрашивает с каким-то пугающим надрывом:
— А что вообще для тебя имеет значение? Ну, кроме твоей работы?
Я с подозрением всматриваюсь в ее глаза:
— Ты уже лишку выпила, что ли? О смысле жизни тянет поговорить? Так с этим не ко мне. Я не веду таких разговоров.
— Почему? — не унимается она. — Боишься их?
Делаю глоток шампанского, хотя лучше бы сейчас выпить водки. Но нельзя — за рулем. Да и недавняя попойка с тем парнем — как же его звали? — еще отдается последствиями. И я убеждаю себя, что нужно завязывать с таким баловством, если не хочу наградить сестру больным ребенком. Ответственность уже навалилась на плечи… Хотя в этот момент я зла на Леру, как ни на кого другого, ведь ей хорошо известен ответ.
— Смысл моей жизни умер одиннадцать лет назад. И ты это знаешь.
— Но, Зоя! — вскрикивает она. — Что ж ты теперь так и будешь…
— Замолчи, — прошу я сквозь зубы. — Не произноси по этому поводу никаких банальностей. По другому — сколько влезет!
Сестра ненадолго замолкает, потом поднимает взгляд, в котором усталость сгустилась за эти несколько секунд.
— Ты считаешь меня способной только на банальности?
— Ох, только давай без этого! — я невольно морщусь, хотя вовсе не стремлюсь ее обидеть.
Но Лера не унимается:
— Без чего — без этого? Без интереса ко мне? Без разговоров вообще?
— Тебе нельзя пить, — заключаю я. — Тебя тянет на психоанализ, а это самая противная форма опьянения.
— Я знаю, что ты всех вокруг считаешь идиотами!
Я выразительно осматриваю щебечущие стайки актеров:
— Ты их имеешь в виду?
— Вообще всех!
— Все человечество?
Ее представления о масштабах моего презрения к миру так смешны, что я и не пытаюсь скрыть улыбки. У Леры начинает дергаться подбородок, как бывало в незабвенном детстве, когда мать заставляла меня всюду таскать младшую сестру с собой, а я шипела ей, ненавидя во всю силу: «Чтоб ты сдохла, сволочь! Надоела!» Потом ночью, уже отойдя от приступа и убедившись, что в компании, куда я так рвалась, хоть с Лерой, хоть без нее, было одинаково скучно, я неумело молилась за сестру, спрятавшись под одеяло: «Господи, пусть она живет! У меня же просто вырвалось…»
Я глажу ее голое плечо, на которое уже все присутствующие мужики покосились с вожделением:
— Не глупи. Все не так безнадежно в моем случае. Моя мания величия еще не достигла мирового размаха.
— Почему ты дружишь с Элькой? — вдруг спрашивает сестра. — Вот уж дура так дура! Стрекоза…
— Вообще-то она работает не меньше твоего. Так что уж ты не можешь называть ее бездельницей.
Лера с сочувствием поджимает губы:
— В сравнении с тобой все мы — бездельницы!
— Вот только не надо представлять мой труд каторжным! Я же упиваюсь тем, что делаю.
— Завидую!
— Скоро тебе тоже будет, чем упиваться, — обещаю многозначительно, и чувствую, что дольше не могу выносить общения с сестрой.
Пошарив взглядом по залу и прислушавшись к обязательным на театральных вечеринках «А помнишь?», я намечаю достойную цель. Сестра поймет, если я даже без объяснений сбегу от нее к такому мужику. Но я соблюдаю приличия.
— Извини, — говорю я Лере, — мне нужно переговорить с худруком, а то к нему потом сорок лет не пробьешься.
Стоит мне только сделать шаг в сторону, к Лере уже подкатывает один из стареющих героев-любовников. Мне мгновенно вспоминается, как однажды, напившись на таком вот мероприятии, он пытался затащить меня к себе в гримерку. И я бы, может, и не стала сопротивляться, если бы перед этим бывший секс-символ нашего кино не облил грязью всех актрис театра, объявив мне, что «гнобит» их. А они, мол, у него в ногах ползают… И мне сразу услышалось, как он будет рассказывать о том, что «гнобил» меня после нашего уединения в его комнатушке…
Решив, что я успею отбить у него Леру, направляюсь к худруку, уже заранее улыбаясь. Просто потому, что, глядя на него, тянет улыбнуться.
Но меня перехватывает актриса, о которой я всегда говорю, не употребляя уничижительного суффикса «к». Из молодых да ранних. Марина пришла в театр только в прошлом году и сразу угодила в спектакль по моей пьесе, так что у нас отношения почти родственные.
— Я прочитала твой последний роман, — говорит она, доверительно понизив голос.
— Да?
Это всегда неловкая ситуация, потому что спрашивать о впечатлении чревато, можно нарваться на мину, которая тебе всю душу разорвет. Поэтому я обреченно молчу, ожидая, что Марина скажет дальше.
— Потрясающе, — выдыхает она. — И знаешь, у меня как груз с души свалился! Я поняла, что вовсе не обязана испытывать чувство вины за то, что хочу состояться, как актриса, а не как мать.
Она думает, что порадовала меня этим, но мне тут же вспоминается последний интервьюер, предупреждавший, что женщины могут воспринять мою книгу как руководство к действию. Напророчил… Что теперь — кричать на весь свет, что я вовсе не хотела клонировать последовательниц? Что мне не нужны толпы единомышленников в юбках, отказывающихся от своей женской сущности? У меня и в мыслях не было делать из childfree явление социальное. Если оно станет таковым, меня нужно сжечь на костре, ведь человечество будет обречено на вымирание. И рожать-то перестанут в первую очередь интеллектуалки, которые не зову матки подчиняются.
Но говорить об этом сейчас бессмысленно. Убеждать каждую читательницу в отдельности, что я писала только о себе и никого не призывала следовать своему примеру? Тогда уж новую книгу надо писать… И я только бормочу что-то невразумительное и сбегаю от Марины к худруку, до которого все никак не могу дойти.
Мне и в самом деле необходимо обсудить с Матросовым кое-какие детали следующей постановки, но это, конечно, не в такой обстановке решается. Фамилия худрука вполне соответствует его внутренней готовности броситься грудью на амбразуру за свой театр. Правда, зовут его не Александром, а Дмитрием Владимировичем. Прочитав первую же из моих пьес, Матросов на такой же театральной вечеринке пообещал, что позаботится, чтобы мое имя появилось на афишах Москвы. И с тех пор сделал для меня столько, что я готова сама лечь на амбразуру, лишь бы он был жив и здоров. Еще и потому, что с его стороны никогда не было по отношению ко мне и намека на то, что называют сексуальными домогательствами. Как, впрочем, этого не позволял себе и никто другой, с кем я знакомилась как автор. Хочется думать, что во мне есть нечто, внушающее уважение…