Конечно, ненормально, если женщина попадает под власть такого рода желаний. Это безнравственно, низко, недостойно истинной дамы и способно оттолкнуть меня от самой себя.
Я ощущаю свою беспомощность и полную несостоятельность. Чувствую себя каким-то безликим, непонятным существом женского пола, обязанным следовать за ним повсюду, куда бы он ни направился, и сгибаться под тяжестью такой ноши. А ноша эта — мое же собственное желание, с которым ничего не могу поделать. Ведь нельзя же избавиться от себя самой! Можно лишь надеяться, что он избавит меня от него. Когда это будет ему угодно».
Ее лицо исказилось от муки. «Мне придется вынести это нелепое идолопоклонничество. Несомненно, когда мы встретимся с ним в следующий раз, я буду ему неприятна. Как и он мне. Мужчина не может вызвать первобытных атавистических чувств без того, чтобы рано или поздно не вызвать твою неприязнь.
В конце концов, он все же отвратителен. Да, я уверена, что он…»
Теперь вызываемые им эмоции, становились все более отрицательными. Все, что она испытывала к нему раньше, сейчас казалось ей неестественным, противоречащим самой природе. Просто он использовал какую-то свою очередную уловку, чтобы отнять у нее женственность, гордость и прирожденное достоинство, а потом оставить, покрыв позором и грязью.
И он, безусловно, преуспел в этом! Да, ему удалось это в полной мере! По крайней мере до того момента, когда некое исконное чувство благопристойности заставило ее осознать, что произошло.
«Какой же, наверное, дурой он меня считает!
Ох, как смеется надо мной и в то же время презирает меня!
Ведь я делала все, что ему хотелось, даже стала обожать его, обожать с безграничной преданностью, доходящей до уничижения».
И она взмахнула рукой в темноте, словно отгоняя от себя зловещее и гибельное воздействие его облика. Он некрасив, нет в нем никакой непобедимости, он не способен ни принести ни с чем не сравнимое наслаждение, ни вызвать искреннее восхищение. Ужасен, омерзителен, обладает сверхъестественной, но отвратительной силой… Просто-напросто околдовал ее, а она хотя и кажется совершенно беспомощной, тем не менее обладает и силой, и храбростью, чтобы развеять колдовские чары и вырваться на свободу.
В конце концов Джасинта настолько успокоилась, что смогла заснуть и спала до тех пор, пока, открыв глаза, не увидела прямо над собой лица Шерри. Слегка удивившись, проснулась окончательно и улыбнулась. В этот момент из ее головы вылетело абсолютно все, кроме того, что рядом с ней оказалась мать.
Шерри наклонилась над ней; она была при полном параде, словно собралась на какой-то пикник, даже держала в руке зонтик от солнца. Ее платье из шотландки в ярко-зеленую и красную клетку, застегивающееся спереди на пуговицы, превосходно подчеркивало безупречность ее фигуры. Воротник был из черного бархата, голову ее украшала изящная бархатная шляпка в тон воротнику. Как и много лет назад, от нее исходил свежий пьянящий аромат, и Джасинта подумала, что Шерри выглядит потрясающе.
— Разве ты не собираешься вставать? — с шутливым упреком в голосе осведомилась Шерри.
Все еще улыбаясь, Джасинта зевнула, потянулась и собралась ответить на вопрос матери. Но тут же вспомнила все, и улыбка мгновенно исчезла с ее лица. Черные глаза расширились, и указательный палец невольно приблизился к губам, как у маленькой девочки, ожидающей родительского наказания. Шерри продолжала смотреть на нее сверху вниз с той же улыбкой, спокойной и сочувственной, и Джасинта, больше не в силах вынести отсутствие какого бы то ни было упрека в глазах Шерри, внезапно перевернулась на живот и, закрыв лицо ладонями, горько заплакала.
Почти сразу же ее спины коснулась грудь Шерри, и Джасинту обняли ласковые руки матери. Шерри нежно гладила дочь по волосам, и, когда заговорила, голос у нее был нежный и успокаивающий.
— Нет, нет, не надо, — шептала она. — Не плачь, дорогая, ну, пожалуйста, не плачь. Ты не должна плакать.
Джасинта, по-прежнему содрогаясь от неистовых рыданий, быстро повернулась и посмотрела на Шерри через обнаженное плечо. Ее лицо было мокро от слез, а выражение его — одновременно умоляющее и испуганное.
— Теперь ты ненавидишь меня! — всхлипывая, вскричала она с такой силой, что едва не задохнулась. Шерри вытащила платочек из бархатной сумочки, висевшей у нее на запястье, и стала вытирать им лицо дочери. — Да, да, теперь ты ненавидишь меня! — продолжала сокрушаться Джасинта. — Я знаю, что ты ненавидишь меня! И немудрено, ты не можешь иначе относиться ко мне! И ты права! Я заслужила это! О! — стенала она в каком-то безудержном отчаянии. — Я сама себя ненавижу!
Шерри, продолжая вытирать слезы, которые ручьем струились по щекам дочери, мягко ответила:
— Нет, Джасинта. Не надо так говорить. Я не испытываю к тебе никакой ненависти. Конечно же, нет. Чтобы ненавидеть, надо иметь основания для упреков. А разве могу я в чем-нибудь тебя упрекнуть?
— Почему тебе не в чем меня упрекнуть?
Сейчас она почти нуждалась в упреках и укорах со стороны Шерри; было так логично ждать от нее какого-нибудь жуткого наказания. Если бы только Шерри отвергла ее, заговорила с ней горько и презрительно, покинула ее, обрекая на вечное одиночество и отчаяние… Но Шерри была нежна и дружелюбна, разговаривая с ней так, словно Джасинте до сих пор пять лет от роду и дочурка по несчастливой случайности разбила ее любимую вазу севрского фарфора.
Шерри протянула ей платочек, тихо вздохнула и встала.
— Какой сегодня прекрасный день! Ты должна побыстрее одеться, и мы пойдем прогуляться… Может, закатим небольшой пикник. Здесь такие восхитительные места для пикников. — С этими словами она подошла к окну и потянула за шнуры, чтобы раздвинуть тяжелые шторы. Когда в комнату ворвался веселый поток сверкающего солнечного света, Джасинте пришлось закрыть глаза и сидеть так до тех пор, пока они не привыкли к этому сиянию после кромешной тьмы в комнате. Шерри протянула ей пеньюар. — Давай, дорогая, одевайся. Ты только посмотри, как распогодилось. В здешних местах всегда так, если ночью случается буря. После бури всегда устанавливается великолепная погода.
Сидя на краю постели, Джасинта грациозно продела руки в рукава пеньюара, чувствуя при этом, что лицо ее буквально горит. Лицо и шея пылали, под мышками ощущалось нервное покалывание; и еще ей казалось, что уши навострились, как у охотничьей собаки, в ожидании того, что дальше скажет Шерри. Не исключено, что упоминание о буре связано со всем случившимся.
Но Шерри, не промолвив ни слова, уселась в огромное, обшитое алым бархатом мягкое кресло и поигрывала украшающей его шелковой бахромой.
Джасинта встала, запахнула пеньюар и, направляясь в ванную, остановилась у двери и посмотрела на Шерри. Но не прямо ей в глаза, а несколько искоса.
— А сколько времени длилась… — начала было она, но потом запнулась, опасаясь, что Шерри поймет, почему возник такой вопрос. И все-таки взяла себя в руки и договорила: — Сколько же времени длилась буря? — Желание услышать ответ становилось все навязчивее и острее.
В комнате воцарилась тишина. Джасинта бросила на Шерри тревожный быстрый взгляд и увидела, что та пристально смотрит на нее и улыбается. Однако сейчас улыбка Шерри не имела ничего общего с той, которую, проснувшись, застала дочь на ее лице. Эта улыбка была еле заметной и какой-то загадочной, в ней угадывались одновременно жестокость и триумф. Джасинта мгновенно испытала мучительный, острый приступ страха и внезапно поняла, что эта молодая и красивая женщина, Шерри Энсон, ее мать, помимо всего прочего, была личностью такого размаха и обладала такими качествами, до которых Джасинте еще далеко и далеко. Да, некоторые способности Шерри так и не перешли по наследству. Ибо взгляд, который сейчас бросила мать, был неожиданно зловещим и заставил Джасинту вздрогнуть.
Пришлось ей обращать все в шутку.
— Похоже, ночью кто-то ходил по моей могиле, — проговорила она, вымученно рассмеявшись и чувствуя, как мышцы щек дрожат от нервного напряжения, с которым никак не удавалось справиться.
«Как это необычно, странно и печально, что Шерри приходится смотреть на меня так. Когда совсем недавно…
Однако совсем недавно я сама должна была напоминать себе, что передо мной находится моя мать».
Вот что вышло из их встречи в этом месте: обе — ровесницы и обе — в апогее своей красоты. Да, в самом деле они, мать и дочь, скреплены былой глубокой и мистической привязанностью. Но, поскольку обе молоды и красивы, в расцвете жизненных сил и любовного пыла, их личные желания одинаково откровенны. Восторженность их не иссякла, у обеих в равной степени не изменился взгляд на собственное, личное право испытывать страсть любой силы.
— Буря длилась два с половиной часа, — ровно ответила Шерри.
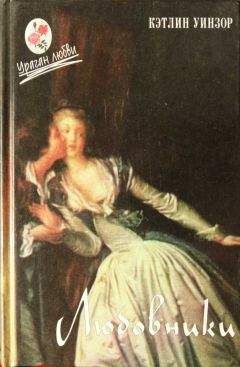


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)

