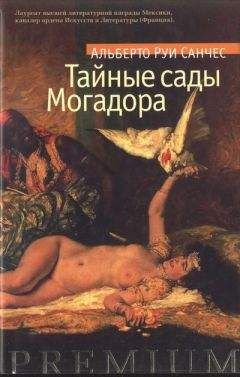Мое путешествие по садам, которые я посещаю в книге, началось давным-давно, раньше, чем я задумал этот роман. Тогда я жил в Париже, недалеко от кондитерской с удивительным названием «Тысяча листьев». Однажды в ней случился пожар, которого кондитерская не пережила, и на ее месте появилась книжная лавка, самое интеллектуальное место района. Занятно, что первоначальное имя было унаследовано новым хозяином. И как дань недавнему прошлому там открыли любопытный отдел гастрономической литературы. «Тысяча листьев» пала жертвой кризиса, подкосившего многие парижские книжные в семидесятых годах, прежде чем начала проводиться в жизнь спасительная политика фиксированных цен. Лавка проработала всего девять лет. И, словно невольный предвестник цветочного магазина, в который несколько лет спустя превратилась кондитерская с говорящим именем, прежде чем книжная лавка закрылась окончательно, в последней возник отдел книг по садоводству, в том числе весьма неоднозначных. Именно тогда во мне родилась страсть к удивительным садам и историям, которые свиваются и ткутся вокруг них.
Стоит рассказать об этих книгах, не обо всех, а только самых основных. Среди прочих трудов о садах и садоводстве нам помогало жить прежде всего «Избирательное сродство» Гёте. Это химический термин, который к тому же используется в садоводстве, когда речь идет об обработке подвоя, черенков и прививок. А в этой книге термин использовался как метафора любовных комбинаций среди пар абсолютно взаимозаменяемых людей — тех, кого сегодня называют свингерами. В своем классическом труде «Беседы с Гёте» Иоганн Петер Эккерман подробно описывает сад великого немецкого поэта в Веймаре, тенистые кроны огромных деревьев, которые когда-то, сорок лет назад, поэт посадил своими руками. И поражается собственному парадоксальному восприятию дикой природы. Роман Гёте написан в 1809 году, и среди прочего поэт с жаром защищает новое явление в садово-парковом искусстве — современный английский парк. Английский парк выступает антагонистом четкой геометрии парка французского, который, по мнению автора, является символом косности и разложения Старого Режима. По этим же соображениям увидел свет великолепный и талантливейший текст Горация Уолпола «История современных вкусов в садоводстве» (1770), на испанский язык его перевел, написал вступительную статью и откомментировал Пабло Солер Фрост в 1998 году в серии «Книги в преддверии». Я довольно много читал Уолпола, с его интерпретациями «Потерянного рая» Мильтона и нравов китайских императоров. Основной тезис Уолпола заключается в следующем: только либеральное общество — порожденное скрытыми и неясными лабиринтами, вытащить на свет или перестроить которые не под силу ни монархам, ни государству, — способно устраивать поэтические сады, чьи виды, чьи пейзажи действительно напоминают природные. Благодаря чтению Уолпола я понял, как сильно он повлиял на Борхеса: знаменитый «Сад расходящихся тропок» (1941) показывает, что для парков и садов пространство не менее важно, чем время.
Говоря о мистических временах и книгах — как о Библии, так и о Коране, — обнаруживаем, что в истории цивилизации находились вдохновенные распространители, пропагандисты садово-парковых практик: «Закрытый монастырь» как средневековый монастырский сад — метафора того рая запрещенных вкусов и желаний, над которыми надзирает и за которые жестоко карает бог наказующий. С другой стороны, чувственный арабский сад, с его четырьмя сторонами, разделенными поющими фонтанами, вдохновлен именно отрывком из Корана, где говорится о четырех разных по вкусу реках, которые текут в раю. Рай, сотворенный богом — одновременно гедонистом и воином. В XIV веке поэт Ибн Замрак написал длинную радостную поэму в форме диалога сада и дворца. Но следует отметить, что страницы стали стенами дворца в Гранаде — Альгамбры. Фризы поют: манускрипт садовника — волнообразная каллиграфия на стенах. Поэты-романтики Виктор Гюго и Теофил Готье так подробно и вдохновенно описали свое видение садов Альгамбры («где слышатся магические звуки луны и ночи, где тысячи арабских арок растут и скрещиваются меж собой и клевер белый шелестит на стенах»), что многие французские садовники желали сотворить нечто подобное на свой манер. Не так далеко от Альгамбры отстоят «Очарованные сады» Фердинанда Бака (1925) и «Голубятни» (1926), появившиеся на свет в Париже в «Luis Conard Editeur». Оба произведения вновь возродили в средиземноморском мире XX века идею романтического гедонизма, находясь под известным влиянием работ Луиса Баррагана. В 1990 и 1991 годах все эти книги были переизданы факсимильно Архитектурным колледжем в Халиско. Директор гранадского ботанического сада Хосе Тито Рохо хранит испанское издание французского классика Мишеля Баридона, переведенного Хуаном Калатравой, — «Сады: пейзажисты, садовники, поэты» (Abada Editores, 2005). Там подробно сравниваются между собой сады эпохи барокко и эпохи Возрождения, но особо интересно, что есть описания и средневековых садов, и исламских. В отношении монастырских садов ближе всего стоит описание монастыря Санто-Доминго в Оахаке, принадлежащее перу брата Хуана Кабальеро, местного главы ордена, который создал где-то между 1785 и 1788 годами иллюстрированный каталог растений провинции Оахака «Естественная дендрология и американская ботанеология, или Трактат о травах Америки»; переиздан факсимильно в 1998 году библиотекой Бургоа, где и по сей день хранится оригинал трактата. Помимо оригинального теста и иллюстраций, в книге есть вступительная статья Марии-Исабель Гранен и пролог Элиаса Трабульсе. Переплет выполнен из великолепной бумаги, произведенной в Оахаке из удивительного растения-эндемика — чичикастля. Подобно птице феникс, сад монастыря Санто-Доминго превратился в Этноботанический сад Оахаки, хранителем которого трудится Алехандро де Авила. В этом благородном занятии ему помогают многочисленные общественные организации, одной из которых руководит Франсиско Толедо. Де Авила описывает увлекательнейшую одиссею растений и взаимоотношения между растениями и человеком в восхитительном очерке, напечатанном в качестве предисловия к фотоальбому Сесилии Сальседо «Шип и плод» (Artes de México, 2006). Эта статья знакомит нас с удивительными и загадочными местными растениями. Мой «Сад доказательств» — скромная дань уважения этому легендарному и восхитительному проекту.
Небольшой обзор литературы не вправе оставить в стороне книги о японском саде, способном внуке китайского. Возможно, самым древним трактатом по искусству разведения садов является японский «Сакутэйки», вероятно, X века. Многие авторы, не исключая самого Плиния Старшего, касались данной темы и раньше, но никто не писал столь научно строго и систематично. Абсолютно не случайно трактат называется «Об искусстве размещения камней»: устройство садов показано в нем как краеугольный и анимистический ритуал, исполненный символики и всевозможных деталей. Поэтому сад становится местом духовного преображения, где камни — обязательный элемент, который связывает вещный мир с миром богов, их тайные и поэтические силы — с миром человека, поклоняющегося всему, что превосходит его собственный мир. «Девять бонсаев» из моей книги — дальнее эхо этой концепции сада, привнесенное, однако, в тело возлюбленной.
Величайшим теоретиком современного садоводства, несомненно, является Жиль Клеман, автор столь памятных проектов, как поместье Райоль и парк Андрэ Ситроена, не говоря уж о множестве сочинений, включая романы «Тома и путешественник» или «Последний камень», а также ставшие уже классическими работы «Планетарный сад», «Сады как книги», «Ворота», «Сад в движении», «Похвальное слово заброшенным землям» и «Манифест третичного пейзажа». Все эти труды — совокупная защита пространства, обезображенного деятельностью человека, и основной тезис их сводится к следующему: биологическое разнообразие превыше власти. Книги Жиля Клемана — приглашение к размышлению о том, что необходимо понять прежде, чем завоевывать и переделывать; что необходимо наблюдать, дабы действовать совместно с силами природы, а не вопреки им. И, как большинство лучших книг по искусству разведения садов во все времена, эти пытаются донести до нас, что возможно производить, не истощая, собирать урожаи и наслаждаться природными благами, не обедняя и не уничтожая, — словом, жить, не разрушая. Осознанию этого процесса и проблеме непредвиденных изменений природных условий посвящена его, пожалуй, основная книга «Мудрость садовника», где содержится гипотеза, переплетенная с идеей «Волшебных садов Могадора»: «Быть может, садовник вовсе не тот, кто продлевает во времени формы, но тот, кто по возможности продлевает очарование».
Разумеется, совершенно очевидно, что моя книга имеет некое внутреннее сходство с великими литературными образцами — «Снами Эйнштейна» Алана Лайтмана, но особенно с «Невидимыми городами» Итало Кальвино. Оба этих произведения, одно с точки зрения времени, а другое — пространства, взращивают очарование и исследуют максимально возможные границы воображаемого. Но в то же самое время между этими двумя произведениями и «Волшебными садами Могадора» есть существенная разница. Таких различий тоже два. Оба покоятся на условии, что Хассиба заставляет рассказчика по первому ее требованию либо поведать новую историю, либо умереть от неразделенной страсти и выдвигает два условия. Условие первое: не выдумывать никаких садов. Именно так. Все сады в этой книге имеют под собой реальную основу. В реальном мире рай действительно построен человеком, охваченным навязчивой страстью. Условие второе: отыскивать особенную манеру описывать сад, исходя из того желания, что его порождает. Таким образом, каждый сад формально отличается от другого, а в действительности представляет собой великое множество «нарративных регистров». Рассказчик переводит эти желания из мира повествования в поэму любви и вожделения любимой. Их облекает плотью и тщательно документирует, превращая сухой документ в изощренный поэтический образ.