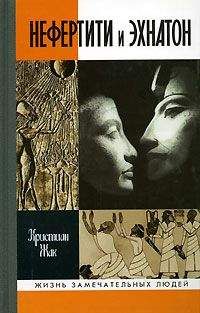1851 год. За границей, куда отправились для лечения Маши, а на самом деле Натальи Николаевны:
«Соседи по столу сочли меня серьезно больной... Никто не может подумать, что мы за границей для нее (для Маши. — Авт.), ибо у меня иные дни лицо весьма некрасиво. Вот только два дня стала немного поправляться, и лицо не мертвое».
1856 год. В Москве:
«Каждый день я здесь обнаруживаю каких-нибудь подруг, знакомых или родственников, кончится тем, что я буду знать всю Москву... Здесь помнят обо мне как участнице живых картин тому 26 лет назад и по этому поводу всюду мне расточают комплименты».
В этот свой приезд в Москву Наталья Николаевна по настоянию Ланского заказала известному художнику Лашу свой портрет:
«Ты взвалил на меня тяжелую обязанность, но, увы, что делать, раз тебе доставляет такое удовольствие видеть мое старое лицо, воспроизведенное на полотне».
«Вчера я провела все утро у Лаша, который задержал меня от часа до трех. Он сделал пока только рисунок, который кажется правильным в смысле сходства; завтра начнутся краски. Когда Маша была у него накануне вместе с Лизой, чтобы назначить час для следующего дня, и сказала, что она моя дочь, он, вероятно, вообразил, что ему придется принести на полотно лицо доброй, толстой старой маменьки, и когда зашла речь о том, в каком мне быть туалете, он посоветовал надеть закрытое платье. — Я думаю, добавил он, так будет лучше. Но увидев меня, он сделал мне комплимент, говоря, что я слишком молода, чтобы иметь таких взрослых детей, и долго изучал мое бедное лицо, прежде чем решить, какую позу выбрать для меня. Наконец, левый профиль, кажется, удовлетворил его, а также и чистота моего благородного лба, и ты будешь иметь счастье видеть меня изображенной в 3/4».
Мне кажется, из этих писем видно, что даже в том возрасте, когда принято как-то страдать по поводу уходящей красоты у женщин и при этом постоянно напоминать о ней всем окружающим (или о своем былом успехе), у Натальи Николаевны так и не появилось тщеславие, она совсем мало об этом говорит, хотя признает, что красота — это необходимость для женщины. Признает с сожалением, потому что для мужчин она не является тем, что определяет их жизнь. Но более всего она ценит покой и душевную простоту, так же, наверное, как ценил ее в ней Пушкин.
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.
В черновых вариантах первой строчки есть слова: «Простая добрая жена», «Простая тихая жена». Именно эти простота и тихость делали красавицу Наталью Николаевну такой непохожей на всех остальных красавиц ее времени и так пленили и Пушкина, и второго ее мужа.
Из других своих качеств сама Наталья Николаевна отмечала: «Твердость не есть основа моего характера», хотя она иногда и была вспыльчива, но потом часто раскаивалась: «Гнев — это страсть, а всякая страсть исключает рассудок и логику». И корила себя: «Я, как всегда, пишу под первым впечатлением, с тем, чтобы позднее раскаяться». Она была самокритична, часто осуждала себя и очень редко других, была ревнива, о чем свидетельствуют и письма Пушкина.
Всякого рода дискуссии о ее нравственности лишены навсегда смысла выбором поэта. Наталья Николаевна была настоящей русской красавицей, и только ее, эталон русской красоты по своей сокровенности и сдержанности, мог выбрать в жены русский гений. Для него она была всем — и родиной тоже. Он почувствовал в Наталье Николаевне ее невероятно русскую природу, ее печаль и тишь, ее привязанность к родной земле...
Уже без него она напишет письмо в июле 1851 года из Германии:
«Ну вот я и в Годесберге. Что я могу сказать? Городок очарователен и всякой другой здесь понравилось бы, но я как неприкаянная душа покидаю с радостью одно место, в надежде, что мне будет лучше в другом, но как только туда приезжаю, начинаю считать минуты, когда смогу его оставить. В глубине души такая печаль, что я не могу ее приписать ничему другому, как настоящей тоске по родине... Здесь великолепный воздух, но все же я жажду покинуть эти места. Лучший воздух для меня это воздух родины... Только тогда мне немного полегче, когда я в движении нахожусь в дороге. Некогда тогда предаваться тоске, иначе хоть на стену лезь, а ты знаешь, что скука не в моем характере, и этого чувства дома не понимаю».
Марина Валерьевна Ганичева
ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА ЛОПУХИНА
(1815–1851)
«Она была прекрасна, как мечтанье...»
М. Лермонтов
Михаил Лермонтов провел всю свою короткую жизнь в поисках идеала и родной души, и если идеал ему удалось изобразить в своей бессмертной поэзии, то одиночество души вряд ли удалось преодолеть.
«Он не был создан для людей» — так в минуту грусти и печали написал он себе в эпитафии.
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя...
Демон русской поэзии метался в поисках пристанища, метался среди любви и страсти нежной. Сначала искал среди многочисленных девушек-родственниц, двоюродных и троюродных сестер с их подругами, более сильные чувства он питал к Екатерине Александровне Сушковой и к двоюродной сестре Анне Столыпиной.
Но затем на многие годы его душевное пространство займет Варенька Лопухина, сестра его близкого друга Алексея Лопухина и близкого для него человека Марии Лопухиной. У них была общая юность, а потом на многие годы Варенька стала «образом дорогой женщины».
Свидетель их отношений рассказывал: «Будучи студентом, он был страстно влюблен <...> в молоденькую, милую, умную и, как день, в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15–16, мы же были дети и сильно дразнили ее; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка», но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения, но оно не могло набросить — и не набросило — мрачной тени на его существование, напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в Гвардейской школе, временно заглушено было новою обстановкой и шумною жизнью юнкеров тогдашней Школы, по вступлении в свет — новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины; в то время о байронизме не было уже и помину».
Он был к ней бережен, что совсем не отличало его в отношениях с другими женщинами: обычно весьма иронично, если не зло, шутил с ними, а с Варенькой был нежен, ей посвятил множество стихотворений, но никогда не называет ее имени. В письмах к своим подругам-наперсницам Марии Лопухиной и Саше Верещагиной тоже не упоминает ее. Только в альбоме Верещагиной рисует. А потом и ее будет жестоко обижать. Но Варенька действительно была ангелом, прощала все и удалялась, удалялась, исчезала в тумане...
Образ ее явился во многих произведениях поэта.
«Она была прекрасна, как мечтанье», продолговатый овал лица, тонкие черты, большие задумчивые глаза и высокое ясное чело навсегда стали для Лермонтова прототипом женской красоты. Над бровью была небольшая родинка.
Характер ее, мягкий и любящий, покорный и открытый для добра, увлекал его. Себя он находил в сравнении с ней гадким, некрасивым, сутуловатым горбачом, преувеличивая по-юношески свои недостатки.
В своей неоконченной юношеской повести в главной героине он изобразил Вареньку:
«Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве... Свеча, горящая на столе, озаряла ее открытый невинный лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить золотой пушок; остальная часть лица ее была покрыта густою тенью, и только когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте. Это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне редко, а наяву почти никогда... Иногда выходила на свет белая ручка с продолговатыми пальцами; одна такая рука могла быть целою картиной».
Но разве я любить
Тебя переставал, когда толпою
Безумцев молодых окружена,
Тогда одной своей лишь красотою
Ты привлекала взоры их одна? —
Я издали смотрел, почти желая,
Чтоб для других твой блеск исчез.
Ты для меня была, как счастье рая
Для демона, изгнанника небес.
Варенька и Михаил были погодки.