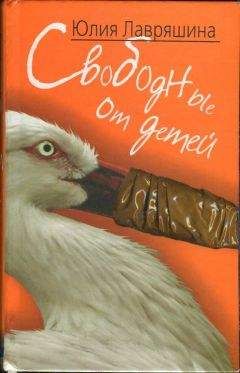А мы рисуем словами в любых условиях, нам даже не нужен вид из окна, потому что существует память, и она переполнена выпуклыми деталями, острыми запахами, разноцветными сокровищами нашего детства, из которого тот же Набоков качал и качал. И существует воображение, способное переместить нас в любую точку земного шара и познакомить с людьми, которых нет на самом деле…
Мы можем влюбляться в них, ненавидеть их, спорить с ними. А они в ответ способны править задуманный нами сюжет, и плевать им, какой синопсис уже одобрило издательство, потому что вдруг всплывает какая-то мелочь, которой не предусмотрел близорукий автор, и если тот выдуманный человек не поможет, пустив ход событий по другому, им проложенному руслу, то все пойдет наперекосяк, все окажется неправдой. Герои не планируют заранее, как им жить, не делают набросков… Они просто живут и позволяют нам наблюдать за собой.
И я поступаю подобно любому из них: говорю и читаю то, что хочется сказать и услышать мне самой. Зал затихает, внимая нашему дуэту, и в какой-то момент мне вдруг начинает казаться, что мы слились с Леннартом в одно, что этот человек создан для меня, как никто другой, и мы не только говорим — думаем в одном ритме. Там, в моем номере, этот ритм был идеален, только там ему подчинялись наши тела, не души. А сейчас мне слышится мелодия на двоих, которую мы сочиняем на ходу. И она заставила замереть этих людей, не знающих моего языка, не читавших моих книг. Мне кажется это волшебством.
Я говорю об этом Леннарту, когда все автографы розданы, цветы получены и мы остаемся в зале вдвоем. Он улыбается:
— Все было очень хорошо.
Я сжимаю его мягкие, детские на ощупь щеки:
— Хорошо! Все было просто потрясающе! Полная иллюзия, что все в зале понимали русский. Или я говорила по-шведски. Ты потрясающий переводчик!
У него болезненно дергается рот:
— Лучше б я был таким поэтом…
— Прочитай мне свои стихи.
Я сажусь на первый ряд с самым внимательным видом, даже ногу на ногу не закидываю, чтобы ему не померещилось пренебрежение, а Леннарт в растерянности переминается на сцене.
— Но ты же не поймешь…
— Я постараюсь. Раз уж сегодня здесь творятся чудеса. — Потом повторяю то, что сказал мне он: — Я буду слушать музыку твоих слов.
И слышу ее. Глядя поверх моей головы, Леннарт произносит долгие, протяжные строки, цепляющиеся друг за друга так ловко, что меня увлекает сплошным потоком — не сознания, отстраненного и холодноватого, а чего-то более теплого, более взволнованного. Это можно назвать потоком эмоций, в котором мучительно слились и любовь, и безнадежность, и лиственный трепет надежды… Ломкие тени дрожат на асфальте, и суровое море швыряет живые волны на скалы, разбивает их вдребезги, без сожаления, без раскаяния. А уставшее от тысячелетнего пожара страсти солнце наблюдает за ними, продолжая мучить себя вспышками, и люди откликаются на них болью сердца.
Действительно ли все это было в стихах Леннарта, или я придумала их, как придумала его самого — какая разница? Скандинавская фантазия на четыре дня, неужели я не могу себе позволить? Кто мне запретит ненадолго сойти с ума и самой себе объявить, что я счастлива до того, что хочется бежать вприпрыжку по кромке воды, задрав платье, сверкая голыми лодыжками, и, дурачась, брызгать в лицо, которое на самом деле хочется гладить мокрыми ладонями, целовать солеными губами?!
В эти дни вкус моря во всем: в словах, которые произносит Леннарт, в жидкости, переливающейся из его тела в мое, в тщательно скрываемых мыслях о жизни, зародившейся внутри мирового океана… В светлых волосах Леннарта, легких, парящих в воздухе, мне уже чудятся зеленые водорослевые пряди Посейдона, который сам — море, с его непокоем и страстностью, пронзительной синевой глаз и волнующимся в глубине желанием бури. Мне так хочется нырнуть туда, где прячутся жемчужины его стихов, где непогрешимая тишина, которой я так ищу в мире неугомонном и шумном. А нахожу только ее убогое подобие, потрескавшееся от детских воплей и гудков машин.
Когда Леннарт умолкает, продолжая завороженно смотреть в ему одному видимую точку, я подхожу к нему и целую в губы.
— Хорошо, что мы встретились, — говорю вполне искренне. — Мы выйдем из этих четырех дней немного другими. Обновленными. Нам будет о чем писать…
Он тяжело переводит дыхание и смотрит мне в глаза. Но не пытливо и не требовательно, а будто смущаясь.
— Ты не хочешь, чтобы было что-то больше… Большее. Чем эти четыре дня?
— Зачем?
Я сама чувствую, как мгновенно ощетиниваюсь. Сквозь кожу так и рвутся иглы, и на загривке пробиваются шипы. Только тронь меня! Только попробуй принудить к подчинению!
Леннарт пожимает плечами:
— Ты не понимаешь, зачем люди живут вместе?
— Живут? — ужасаюсь я. — Леннарт, об этом и речи быть не может!
— Почему?
Кажется, он и впрямь не понимает этого. Поэт, не желающий свободы и только свободы, — не полноценный поэт. Он дробит свою душу на части, и творчеству не всегда достается самая крупная. Из нее рождаются мелкие стихи, за которые потом становится стыдно. Но понимаешь это не сразу и позволяешь себе размениваться на обычное, человеческое, — на любовь, на семью, на друзей. А это несовместимо с тем, чего требует от тебя талант — полного самопожертвования, затворничества. Эти несколько дней в Стокгольме — попытка увильнуть от своего долга, почувствовать себя человеком. Я боюсь, как бы они не аукнулись мне…
— Потому что мы с тобой не обычные люди, — терпеливо поясняю я. — Ты — ферфаттарен, как и я, Леннарт. Я правильно произношу слово «писатель»? И мы с тобой рождены не для того, чтобы греться у очага и плодить младенцев в перерывах между завтраками и обедами.
— Ты нарочно говоришь таким тоном, — пытается уличить меня Леннарт.
Голос у него становится низким и глуховатым, точно ему приходится превозмогать боль, отдающую в горло. Попытавшись сглотнуть ее, он добавляет:
— Ты пытаешь всех опустить…
У меня прорывается смех, причины которого он понять не может — не настолько знаком с русским сленгом. И смотрит на меня с подозрением стареющей, но еще не смирившейся с этим женщины, которой мнится, будто юнцы смеются над ее морщинами.
— Ох, Леннарт! Никогда больше не произноси эту фразу, — умоляю я со стоном.
Его губы вдруг начинают подрагивать так обиженно, что у меня сжимается сердце:
— Ты хотел сказать, что я приземленно смотрю на вещи? Нет, Леннарт. Я пытаюсь взглянуть трезво. И это позволяет мне видеть, что некоторые вещи не сочетаются.
— Какие вещи? — уточняет он, и я понимаю, что под этим словом Леннарт подразумевает только материальные предметы.
— Семья и творчество.
Я ничего не поясняю, в этом нет нужды. Наверняка он и сам размышлял об этом, не мог не размышлять, пускаясь следом за музой. Конечно, не в первый раз, когда это случается внезапно, отдаваясь в душе восторгом и ужасом, как бывает и с первой близостью. Но когда уже отдаешь себе отчет в том, что делаешь и чем это грозит, мысли о приобретении и потерях неизбежны. И тогда делаешь выбор: идти тропой творчества или толкаться на обочине среди графоманов и любителей, пытающихся сесть на два стула и неизбежно оказывающихся между…
— Пойдем, Леннарт, — зову я.
Волшебство этого зала рассыпалось оттого, что мы заговорили о делах житейских. Один лишь призрак заурядного счастья замутил солнечный свет, рассеивающийся по тому пространству, где только что стальными струнами натягивались рифмованные строки. Я беру своего друга за руку и вывожу на вечернюю улицу, где еще чудится аромат моря, который я ищу во всем.
— Нас пригласили на ужин, — вдруг вспоминает Леннарт и смотрит на часы. — Уже пора.
— Кто? Местные поэты? Тогда есть там будет нечего, надо подкрепиться заранее.
Он не отзывается улыбкой.
— Вовсе нет. Мои родители. У них еще будет моя сестра с мужем и детьми.
У меня закрадываются недобрые подозрения:
— Леннарт, я надеюсь это не смотрины?
— О, нет! — отзывается он уж как-то очень поспешно.
— Ну, хорошо, — сдаюсь, даже не начав бой. — Я буду рада познакомиться с твоей родней.
В конце концов, сэкономить на ужине и попробовать настоящую шведскую кухню тоже неплохо. Мне уже чудится запах традиционной свинины с горохом, но я вспоминаю, что сегодня не тот день недели. Кажется, это блюдо здесь подают по четвергам… Все остальные дни — рыбные?
Рука Леннарта, которую я сжимаю своей, чувствительно обмякает. И мне даже неловко от мысли, что ему достаточно такой малости, чтобы ощутить радость. Я ни за что не пригласила бы никого из своих друзей на ужин к моей матери… Хотя это говорит лишь о том, что у Леннарта с родителями совсем другие отношения. И мне уже становится любопытно посмотреть на людей, которые вырастили этого мальчика, так и не ставшего взрослым, как не достигает этой взрослости никто из поэтов. А достигшие перестают писать, переходя в мир лишенных воображения филистеров…