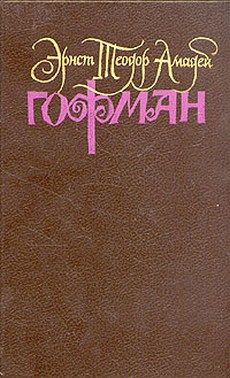Олави понимал, что нужно отвечать, но не мог.
— Так страшно сознавать это все и чувствовать свое бессилие, — продолжала жаловаться Кюлликки. — Ты все еще — бродяга… а я слаба… и ты убегаешь от меня… к тем, которые ждут тебя…
— Боже мой! — вырвалось у Олави. — Не говори так. Ты ведь знаешь, что я не хочу быть ни с кем, кроме тебя. Только с тобой!
— Ты уходишь против собственной воли. А они, улыбаясь, встречают тебя. Я одна, а их много. Они одерживают надо мной победу, потому что я не могу дать тебе больше того, что может одна женщина. А они шепчут тебе беспрестанно, что я уже подарила тебе все, что могла, и больше у меня ничего нет.
— Кюлликки! — прервал Олави ее возбужденную речь, с мольбой глядя на нее.
Но Кюлликки, как весенний поток, ломающий лед, уже не могла остановиться.
— Они мстят мне за то, что я одна хотела завладеть тобой. Они являются даже тогда, когда ты лежишь в моих объятиях, они улыбаются, шепчут и тянут тебя к себе…
— Кюлликки! — закричал Олави и вцепился в ее руку, как утопающий.
— …и тогда ты обнимаешь их и целуешь их, — закончила Кюлликки, вырвала у него руку и зарыдала.
Олави был сражен. Все, что тяготело над ним, как проклятье, все, что отравляло их счастье, было теперь названо.
Отчаяние Кюлликки нарастало, как снежная лавина. Вся их жизнь — со всеми планами и надеждами — казалась ей теперь одним сплошным самообманом.
— Будь у меня то, о чем я смертельно тоскую уже второй год, я примирилась бы со своей судьбой. Его у меня не отняла бы никакая сила в мире. Но… теперь я поняла, почему мне это не дано, и теперь у меня не будет уже никакой надежды.
Она заплакала навзрыд.
Точно острый нож вонзился Олави в сердце — в самое больное место. Он пытался утешить жену, хотя сам давно утратил надежду. Он один был во всем виноват — теперь и она это понимала. Он оцепенел от горя и умолк.
Когда Кюлликки немного успокоилась, ее испугала тишина.
Она быстро обернулась к Олави. Его лицо было так печально, что она почувствовала угрызения совести.
— Олави! Дорогой Олави! — сказала она, хватая его за руки. — Что я наделала? Я не хотела тебя упрекать. Может быть, это я сама виновата… наверно, так и есть!
Но Олави продолжал сидеть неподвижно. Он только изредка вздрагивал всем телом.
Кюлликки стало так жаль его, что ее собственное горе померкло.
— Не надо печалиться, Олави, — сказала она так нежно, будто хотела загладить нанесенную обиду. — Как я могла быть такой безрассудной, такой глупой, слабой и эгоистичной…
— Нет, — перебил ее Олави. — Ты такой и должна быть: ты — моя совесть. Иначе ты не была бы мне настоящим другом.
— Неправда, Олави, именно об этом-то я и забыла. Забыла наш девиз, на котором все построено: страдать и надеяться вместе. Слышишь, Олави, — вместе!
Она села к нему на колени и обняла его.
— Ты понимаешь? — горячо заговорила она. — Все это вышло оттого, что я так сильно люблю тебя.
Я хочу всего тебя! Я ни за что, ни за что не выпущу тебя и заставлю глядеть в мои глаза. Я прогоню всех, кто хочет встать между нами, я теперь снова сильная. И ты — только мой… слышишь, Олави, мой, мой!.. Почему ты молчишь — скажи мне что-нибудь!
Она согревала его своим огнем, он чувствовал, что оттаивает.
— До чего же ты хорошая, Кюлликки! — сказал он, и глаза его заблестели. — Ты для меня — все на свете, без тебя я тону. Знать бы мне только одно…
— Что?..
— Что ты не презираешь меня, что доверяешь мне, веришь тому, что я хочу принадлежать тебе одной.
— Я верю, — отвечала Кюлликки. — Я ведь знаю, что мы стремимся к одной цели, но у нас есть враги, которые нам мстят. Мы одолеем их — непременно одолеем! Тогда ты возьмешь меня — всю… как в тот летний вечер, когда ты уходил с Кохисева… И я тоже получу тебя — всего. Тогда у меня появится и тот, без которого я не могу жить.
Бревенчатые стены избушки глубоко вздохнули: «Ты права, вся причина в этом. Мерзлая земля не дает всходов».
Кирккала, 7 мая 1899.
Мой единственный!
Не сердись, что пишу тебе… Да ведь ты и не будешь сердиться, правда? Ты такой хороший! Я не хотела писать, но мне надо о многом рассказать тебе.
Теперь снова весна, как и тогда, а весной на меня нападает такая тоска, что я должна отправиться на твои поиски и поговорить с тобой… потом опять можно ждать следующей весны. Ты, наверное, чувствовал, что я уже приходила к тебе… теперь, узнав твой адрес, я отправляюсь к тебе по почте.
Ты помнишь предание, которое я тебе рассказала… Про девушку, про юношу и про знак? Помнишь, что я тогда попросила у тебя? И что получила? Я потом много думала — правильно ли ты меня понял? Очень уж ты тогда стал серьезен и задумчив. Может быть, ты решил, что я сама не уверена — всегда ли буду принадлежать тебе? Нет, дорогой Олави, я и тогда знала себя, хотя и не так хорошо, как теперь. Мое чувство к тебе глубоко и неколебимо. Я прочла как-то стихотворение о дереве, в которое ударила молния. Ты его тоже, конечно, знаешь:
Поражает мгновенно
Молнии свет,
Но след остается
На сотни лет.
К этим словам нечего прибавить, их точно сам господь бог начертал. Да иначе и быть не может, иначе любовь ничего не стоила бы.
Но это не все понимают, далеко не все. Люди такие странные. Они удивляются, спрашивают… почему, например, я одна, всегда одна? Как они не могут понять, что я не одна, совсем не одна?
Ах, Олави, если бы ты знал, что я вынесла и пережила за эти годы! Мне и рассказывать об этом страшно. Но я все-таки расскажу — ведь для того я к тебе и пришла, чтобы все тебе рассказать и почувствовать облегчение. Я так тосковала по тебе, что даже не понимаю — откуда у меня еще находятся силы жить. Олави, Олави, не смотри на меня так, это я говорю тебе совсем тихо, на ухо… Мне приходили на ум дурные мысли. Точно кто-то постоянно ходил за мной и нашептывал: «Погляди, вот лежит нож, это твой друг, возьми его и пронзи им себя — тебе покажется, что вечерний ветерок ласкает твое разгоряченное лицо!.. Разве ты не видишь: на реке разлив…» Мимо колодца я боялась ходить: он смотрел на меня так странно, будто заманивал. И я, конечно, утонула бы, если бы ты меня не спас. Когда я думала, каково тебе было бы услышать об этом, ты возникал передо мной, укоризненно глядел на меня и молчал. Мне становилось стыдно, что я могла доставить тебе огорчение. А ты кивал головой, прощал меня и был снова добр.
Потом я мечтала о чуде, которое вновь приведет тебя ко мне. Я мечтала о том, что с тобой случится несчастье и я спасу тебя, пожертвовав собственной жизнью. Что тебя, например, укусила змея… они ведь часто кусают людей. Ты пришел бы в нашу деревню ночью вместе со сплавщиками, а утром по всей деревне разнеслась бы весть: горе! горе! змея укусила Победителя порогов, он лежит уже совсем без сознания. Я побежала бы к тебе вместе с другими и, ни слова не говоря, опустилась бы на землю рядом с тобой, приникнув губами к ранке… Я почувствовала бы, как яд вместе с твоей кровью разливается по моим жилам, точно безмерное счастье, которого я так долго ждала. Голова моя отяжелела бы и наконец тихо упала на траву рядом с тобой, но ты был бы спасен и понял, что я осталась тебе верна до самой смерти.
Этого я ждала каждую весну. Потом я мечтала о том, что ты заболеешь. Будешь болеть долго, очень долго, и крови у тебя останется так мало, что она будет пульсировать едва заметно, а сам ты будешь бредить. «Если бы нашелся теперь кто-нибудь, — сказали бы доктора, — кто дал бы ему немного своей крови, тогда он был бы спасен, потому что сама болезнь уже побеждена». Но никого нет, все чужие. Тогда я узнаю об этом и бегу в больницу. Доктора сразу принимаются за дело, — нельзя терять ни минуты. Мне вскрывают вену и соединяют ее трубкой с твоей веной. Действие сказывается сразу, ты еще не приходишь в себя, но уже начинаешь двигать рукой. «Можно еще немного, — говорят доктора, — раз девушка продолжает улыбаться». Они не знают, насколько я слаба. И когда ты приходишь в себя, я лежу холодная и бледная, но с улыбкой на устах, словно невеста, и ты целуешь меня, словно жених. Потому что теперь я твоя невеста по крови, я соединена с тобой навеки и всегда буду жить в тебе…
Но все это — одни только сны. Змея не укусила тебя, ты не заболел, и я даже не знала, куда ты исчез. И тогда я стала желать себе смерти. Я ждала ее день за днем, неделя за неделей и даже написала тебе прощальное письмо. Но смерть не пришла… мне надо было жить дальше.
Я была так больна, Олави… мое сердце. Я, наверно, слишком чувствительна, меня в детстве называли мечтательницей, да и теперь еще часто этим корят. Но как я могу забыть тебя и те часы, которые были для меня священны? Как мне забыть те вечера, когда я сидела на полу, обнимала твои колени и глядела на тебя? Твое тепло согревало меня, и кровь твоя вливалась в меня… ох, дорогой Олави, я дрожу при одном воспоминании об этом.