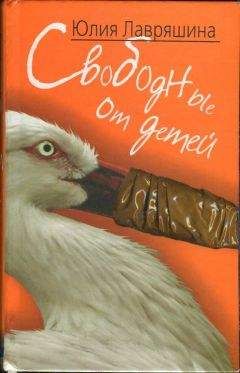— Привет, — я произношу это со всей возможной приветливостью. — Какими судьбами?
Вопрос банален и подразумевает такой же ни к чему не обязывающий ответ. Но Малыгин отказывается принять правила игры.
— Я так и знал, — выдыхает он и наконец поднимает взгляд на мое лицо. С Лерой он даже забывает поздороваться.
— Я же посвятила тебя в свои планы.
— Но ты забыла сообщить мне, что действительно собираешься рожать! — внезапно начинает он орать, покраснев и даже вспотев от гнева.
Его раздувающиеся ноздри покрываются бисерными каплями, а губы подергиваются и кривятся, уродуя красивый рисунок. Мне вдруг приходит в голову, что Малыгину была бы по силам серьезная, драматическая роль. Он не боится быть некрасивым, быть смешным, а трагический герой всегда ведь немного смешон. Если Влас не слишком разозлит меня сейчас, то я попробую замолвить за него слово при кастинге на фильм, который собираются снимать по моей книге о дезертире Чеченской войны, несколько лет скрывавшемся даже от своей семьи. Особенно от своей семьи… Это была одна из ранних моих повестей, и получилась она по-юношески резкой и жесткой. Мне самой кажется, что сейчас я стала писать мягче…
Лерина рука сзади осторожно, чтобы не испугать, сжимает мой локоть, призывая не нервничать. Но я не чувствую себя виноватой, с чего бы мне нервничать? Я отвечаю Власу вопросом, заранее понимая, что он выведет его из себя еще больше:
— А почему я должна была сообщить об этом именно тебе?
И добавляю наше кодовое слово, которое должно добить его:
— Сударь…
Власа и впрямь прошивает насквозь, будто мое легкое грассирование впивается в его тело разрывной пулей.
— Ты… ты… — выдавливает он, и мне уже кажется, что сейчас на мою голову выльется поток брани, но Малыгин проявляет свои лучшие качества и только спрашивает с несколько преувеличенной тоской в голосе: — Как ты могла так поступить со мной?
— Переигрываешь, — замечаю я. — Пережимаешь с надрывом. Все не так трагично! Все ведь остались при своих. Все довольны, всем спасибо!
Его опять начинает корежить:
— Перестань паясничать! Как ты могла без меня решить: рожать этого ребенка или нет?! Я что, здесь вообще ни при чем?
— Именно! Наконец-то догнал… Ты здесь вообще ни при чем. Это не твой ребенок. Теперь еще яснее?
— Как это не мой ребенок? — удивляется Влас.
Такая святая простота! Такое неподдельное изумление… Как будто мы прожили с ним в браке тридцать лет и три года, и он никак не ожидал от меня такого вероломства. Как Сталин от Гитлера.
Лера не вмешивается, но не выпускает мою руку, взволнованно дышит сзади над ухом, я даже чувствую, как движется ее грудь. Хорошо, что она рядом, все-таки беременность делает меня более уязвимой, чем обычно. Я даже убежать от Малыгина не смогу, если доведу его до бешенства… А этого мне жуть как хочется! Трясти перед его мокреющим лицом своим животом, пока у него пена на губах не появится. Хорошо было играться с актрисками у меня на глазах? Теперь пора платить, сударь!
— Слушай, Малыгин, — говорю я притворно-миролюбиво, — мне волноваться нельзя, так что ехал бы ты отсюда. Я не думаю, что у нас получится разговор по душам.
Не слушая меня, Влас мрачно спрашивает:
— Кто он?
— Тебе-то я с какой стати должна сообщать его имя?
— Он знает?
— Свое имя? Уверена, что знает. Повода для амнезии у него вроде не было.
Он опять начинает заводиться:
— Прекрати кривляться! Где этот мужик? Почему он не с тобой?
Я понимаю, что придется ответить серьезно, да так, чтобы его встряхнуло и в голове прояснилось. За эти месяцы Малыгин, видимо, забыл, с кем имеет дело. И я говорю, глядя ему в глаза, которые мне так хотелось видеть когда-то:
— Он не со мной потому, что он мне не нужен. Равно, как и ты. Как и ребенок этот. Его будет воспитывать Лера, — я киваю на сестру на случай, если Влас забыл, кто это такая. — Вот ей ребенок нужен, а у меня другая жизненная программа, если помнишь…
— Зачем же…
— Нет, у тебя все выветрилось из памяти! Мы же говорили с тобой об омолаживающих родах!
— Так ты… Какая же ты… Это что — игрушки, по-твоему? — внезапно опять свирепеет он и тычет пальцем в мой живот, но не касается его. — Там ведь живой человечек! Даже если он и не мой… Ты-то как можешь так относиться к нему? Что ты за мать после этого?
— А я и не мать. Я — живой инкубатор. Доведу до кондиции внутри своего тела и отдам в хорошие руки. Встречал такие объявления?
Его просто сбивает с толку мое спокойствие, он растерянно бормочет, уже то и дело поглядывая на Леру, в которой у него больше шансов найти союзницу:
— Так ведь это не котенок и не щенок. Как можно его просто взять и отдать?
Я улыбаюсь:
— А зачем мне этот геморрой? Разве ты не так всегда говоришь, Малыгин? Разве не ты живописал мне ужасы беременности?
— Самой по себе, — вспоминает Влас. — Но если ребенок уже есть…
Мы топчемся на месте, как боксеры на ринге, которые все примериваются, но никак не решатся нанести главный удар. Впрочем, я уже выдала все, что имелось в запасе, чем еще можно отправить его в нокаут, далее не представляю. Он должен был уехать еще минут пять назад.
— Ты меня не слышишь, — говорю я, уже не изображая усталость, а испытывая ее. — Я же сказала тебе, что этого ребенка я рожаю для Леры. Он не попадет ни в детский дом, ни в чужую семью. Он… вернее она, будет здесь куда счастливее, чем если бы осталась со мной. У меня на нее просто времени не хватило бы! И любви. Я разучилась любить, Влас. Я и тебя не любила, ты же знаешь…
Вот это ему приходится перетерпеть, сжав зубы. Желваки ходят на щеках, на крепкой шее вздуваются жилы, и мне чудится, что у него сейчас горлом хлынет кровь — не от крика, как было с Высоцким, а от молчания. Иногда оно требует еще большего напряжения всех сил…
— Я знаю, — наконец отвечает Влас и растопыренными пятернями зачесывает назад безвольно опавшие волосы.
В этом движении столько исступления, что мне кажется: сейчас он снимет с себя скальп, чтобы я смогла прибить его на двери своего дома.
— Но я все равно не верю, что этот ребенок не мой, — неожиданно заявляет он. — Назови мне имя, если этот человек существует!
— Чтобы он тоже явился сюда качать права?
— Так он все же не знает?!
— И ты никому не скажешь, Малыгин, — мне хочется, чтобы это прозвучало угрожающе, но получается не очень. — Если ты хоть слово кому-нибудь сболтнешь о моей беременности, я тебя с землей сровняю, понял? Ни одной роли больше не получишь ни в одном театре. Даже в самый дешевый сериал тебя не возьмут.
Он вдруг начинает смеяться, и я пугаюсь, что это истерика. Показывая на меня пальцем, Влас заходится от хохота и стонет:
— Стоит среди леса… От горшка два вершка! Пузо вперед! И еще угрожает…
— Ха-ха! — зло откликаюсь я. — Мне до родов пара дней осталась, так что ты не обольщайся насчет долгой и безопасной жизни.
Малыгин почему-то мгновенно приходит в себя, отирает слезы:
— Пара дней? Где ты будешь рожать?
— А ты собираешься заявиться на роды? Мне там и без тебя плохо будет, можешь не усугублять.
— Я не собираюсь действовать тебе на нервы!
— Влас, не беспокойся за нее, — вдруг вступает в разговор Лера. — Мы с Егором уже купили страховку на роды. Туда и палата люкс входит, и анестезия, и все, что положено…
Он благодарит ее так проникновенно, будто доверяет чужим людям свою любимую жену, о которой по независящим от него причинам не может позаботиться сам. И это почему-то так трогает, словно отношение этого дурака важно для меня… Я смотрю в его желтоватые, кошачьи глаза и вижу свет той осени, когда мы впервые сцепились взглядами. Мне сказали, что этот парень будет играть Медведя в моей сказке, и я оглянулась, чтобы проверить, насколько подходит. А почему оглянулся Влас, я так и не спросила у него. Только подумала тогда, что ему больше подошла бы роль тигра или леопарда, столько силы и грации чувствовалось в его теле. Неуклюжести ни грана, как режиссер разглядел в нем Медведя? Впрочем, Абдулов тоже был медведем в свое время…
Я решаюсь поговорить с ним о роли, хотя там и говорить не о чем — веселая новогодняя сказка, не более того. И я сама понимаю, что это лишь предлог подобраться к этому парню, к которому сразу же захотелось прижаться, огладить его светлое лицо, поцеловать кошачьи глаза, укротить без хлыста и пряника, одной только близостью своей. Мы выходим из театра уже почти друзьями, разговаривая взахлеб, перебивая друг друга. И погружаемся в осеннее тепло, пестрое, кленовое — словно жар-птица разроняла огненные перья, распушившие свои опахала. И ненадолго попадаем в сказку…
* * *
Этот ребенок, не от Власа зачатый, так потянулся к нему, что едва тот повернулся, чтобы уйти, как по моим ногам, отчаянной попыткой всего организма остановить этого человека, заструились воды. Не удержавшись, я вскрикиваю, хотя столько раз давала себе слово, что не буду паниковать, когда все начнется, не уподоблюсь всем этим орущим бабам, звука не издам. Тем более эпидуральная анестезия мне обеспечена… Но когда мои светлые летние штаны с мешком для живота внезапно намокают, я испытываю приступ ужаса, от которого подкашиваются колени.