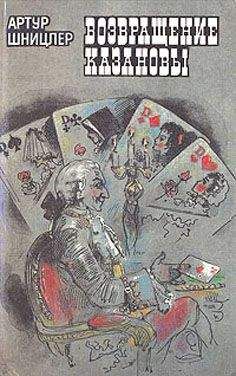Снег на улице стаял и был подметен вдоль тротуаров в маленькие грязно-белые кучки; мерцали газовые рожки фонарей, на ближней церкви пробило одиннадцать. Фридолин решил провести полчаса перед сном в маленьком тихом кафе, рядом с его квартирой, и пошел через парк Ратуши. В гуще мрака по скамейкам, прижавшись друг к другу, здесь и там сидели парочки, словно и впрямь была весна и обманчиво-теплый воздух не таил в себе роковых опасностей. На одной из скамеек, растянувшись во всю длину, лежал и спал оборванец в нахлобученной на лоб шляпе.
«Что, если я разбужу его, — подумал Фридолин, — и дам ему денег на ночлежку? Нет, это ни к чему не привело бы! Мне пришлось бы заботиться о нем и завтра, и послезавтра, — иначе не стоит начинать, — а под конец меня еще могут заподозрить в противоестественной связи с этим субъектом!»
Размышляя в таком духе, он ускорил шаги, словно хотел ускользнуть от всякого рода ответственности и соблазна.
«Чем этот бездомный лучше других? Ведь в Вене тысячи бесприютных оборванцев? Можно ли нянчиться со всем этим сбродом, возиться с каждым встречным?»
Фридолин вспомнил покойника, которого он только что покинул, и не без содрогания, даже с отвращением подумал о том, что худое тело, распростертое под коричневым фланелевым одеялом, уже начинает гнить и разлагаться согласно вечным законам природы.
Он порадовался тому, что еще живет и что для него, как говорят все вероятия, еще не скоро наступит безобразный и страшный распад.
Он подумал о том, что вся жизнь для него еще впереди, что у него очаровательная и достойная любви жена и что он мог бы завести еще одну или даже несколько жен, если бы ему захотелось… Правда, для этих вещей требуется досуг, а он им не располагает… Завтра, например, к восьми часам утра он обязан быть в отделении поликлиники, с одиннадцати до часу ему предстоят визиты к частным больным, с трех до пяти у него домашний прием, и даже вечерние часы распределены по визитам. Будем надеяться, что с легкой руки сегодняшнего вечера его не станут тормошить ночью.
Он пересек площадь Ратуши, отливавшую тусклым глянцем, словно коричневый пруд, и углубился в родной клинический квартал Иозефштадта. Навстречу ему послышались издали мерные и гулкие шаги, и на довольно большом расстоянии показалась из-за угла кучка «цветных» студентов, человек в шесть или восемь, двигавшаяся ему навстречу. Когда молодые люди вошли в полосу фонарного света, он узнал в них как будто «голубых аллеманов». Сам он никогда не был корпорантом, но в свое время не уклонялся от мензур. В связи со студенческими воспоминаниями перед ним опять мелькнули красные домино, заманившие его вчера ночью в ложу и тотчас же с дерзким лукавством улизнувшие.
Студенты подошли близко. Они громко говорили и смеялись. Быть может, он знает кого-нибудь из них по клинике? В тусклом фонарном свете нельзя было разглядеть лиц. Уступая дорогу молодым людям, он прижался к стене; вот они прошли, и только последний — долговязый юноша в распахнутой меховой куртке с повязкой под левым глазом — как будто нарочно задержался и, выставив локоть, толкнул Фридолина. Это не могло быть случайностью!
«С ума, что ли, он сошел?» — подумал Фридолин и невольно остановился. Студент остановился тоже на расстоянии двух шагов, и они поглядели друг на друга почти в упор. Внезапно Фридолин отвернулся и пошел дальше. В спину ему послышался смешок, и Фридолин чуть не вернулся, чтоб проучить нахала, но почувствовал странное сердцебиение — точь-в-точь такое, как лет двенадцать-пятнадцать тому назад, когда раздался яростный стук в его комнату, а в комнате этой находилось милое, молодое создание, имевшее привычку болтать о далеком путешествующем и, по всей вероятности, не существующем женихе. Виновником грозного стука тогда оказался всего-навсего почтальон. И вот опять, как тогда, сумасшедшее сердцебиение.
«Что это значит? — раздраженно подумал Фридолин и вдруг заметил, что у него подгибаются колена. — Неужели он трус?»
«Чепуха! — успокоил он себя. — Мыслимо ли мне связываться с пьяными студентами, мне — тридцатипятилетнему мужчине, практикующему врачу, женатому человеку, отцу семейства?.. Бррр… Секунданты? Дуэльный кодекс? Дурацкое бряцание рапирами… и в результате: повреждение руки, неделя вынужденного отдыха… А то, пожалуй, вытекший глаз или, еще лучше, заражение крови, — а дней через восемь растянуться, как господин с Шрейфогельгассе, под коричневым фланелевым одеялом!»
Он трус? Он выдержал три сабельных поединка и однажды готов был пойти на пистолетную дуэль, и, право, не по его настоянию дело тогда закончилось миром!
А сама профессия врача? Опасности, подстерегающие ежеминутно со всех сторон, до того привычны, что о них забываешь… Давно ли ребенок, больной дифтеритом, кашлянул ему в лицо?.. Три-четыре дня тому назад, не больше. Это будет посерьезнее, чем дурацкое студенческое фехтование, а между тем он с тех пор даже не думал об этом. Когда-нибудь он еще встретит обидчика и тогда с ним посчитается! Разумеется, он не обязан в полночь, возвращаясь от больного или на пути к больному — ведь могло быть, наконец, и так, — реагировать на выходку пьяных студентов-задир. Вот если б ему повстречался теперь датчанин, с которым Альбертина… ах нет, что за вздор!
Однако этот датчанин так взволновал Альбертину, словно был ее любовником. Даже хуже, даже еще хуже! Да, вот кого бы сейчас встретить! Какое блаженство сойтись лицом к лицу с этим молодчиком где-нибудь на лесной лужайке и целиться из дуэльного пистолета в прилизанную белокурую прическу!..
Оказалось, что он прошел слишком далеко и вышел на узкую улицу, где бродили одинокие жалкие проститутки в ночной охоте за мужчинами.
«Как призрачно!»— подумал Фридолин.
И вдруг — студенты в голубых шапочках показались ему такими же привидениями, как Марианна, жених ее, дядя и тетка, и все они представились Фридолину призрачным хороводом вокруг постели покойного советника; даже Альбертина, которая мерещилась ему в глубине сознания, даже ребенок, спящий калачиком в узкой белой кроватке, даже фрейлейн с родинкой на левом виске — все они отодвинулись в шаткий и призрачный мир. В этом ощущении, хотя оно заставило его слегка содрогнуться, было нечто успокоительное, освобождающее от всякой ответственности, разрешающее все человеческие узы.
Одна из сновавших по улице девушек окликнула его. Это было изящное, совсем еще молодое создание с бледным личиком и ярко накрашенными губами.
«И это „удовольствие“ может кончиться смертью, — подумал он, — только не так уж скоро. Что же, и это трусость? В глубине души — да!»
Он услыхал за собой ее шажки; она еще раз его позвала:
— Значит, ты не пойдешь со мною, доктор?
Он невольно обернулся.
— Откуда ты меня знаешь? — спросил он.
— Я вас не знаю, — ответила она, — но в этом квартале все мужчины — доктора.
С гимназических лет Фридолин не водился с женщинами этой породы.
Неужели он впал опять в мальчишество? Ведь эта девушка — стыдно сказать — его волнует!
Он вспомнил беглое свое знакомство с одним изящным молодым повесой, который пользовался баснословным успехом у женщин. Однажды, будучи студентом, после бала он сидел с этим юношей в ночном кафе и, когда знакомец Фридолина собрался уходить с одной из профессиональных посетительниц кафе, а наивный студент посмотрел на него с легким недоумением, тот ему ответил: «По-моему, это — самое удобное и, во всяком случае, не самое худшее!»
— Как тебя звать? — спросил Фридолин.
— Ну, так, как нас всегда зовут: конечно «Мицци»!
Она уже отперла ключом калитку в воротах и переступила порог, ожидая, что Фридолин за нею последует.
— Быстренько! — сказала она, когда он замешкался.
Внезапно он очутился возле нее; калитка за ним захлопнулась, она щелкнула ключом и зажгла восковую спичку, освещая ему дорогу.
«Я сошел с ума, — подумал Фридолин. — Разве я могу к ней прикоснуться?»
В комнате ее горел масляный светильник. Она повернула фитиль, и ночник озарил довольно уютное помещение, опрятное и прибранное и, во всяком случае, с более приятным запахом, чем хозяйственные испарения в доме Марианны. Да… там лежал месяцами больной старик… Девушка усмехнулась и без всякой назойливости придвинулась к Фридолину, который мягко ее отстранил. Тогда она указала ему на качалку, и он охотно в нее опустился.
— Ты, конечно, очень устал, — заметила она.
Он кивнул.
Неспешно раздеваясь, она прибавила:
— У вас, господа доктора, известно, много дела. Нам, девицам, легче!
Он заметил, приглядевшись, что губы ее не накрашены и что яркость их природная, и сказал ей по этому поводу любезность.
— Зачем же мне мазать губы? — спросила она. — Как ты думаешь, сколько мне лет?
— Лет двадцать, — загадал Фридолин.