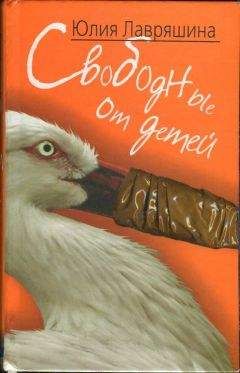Такси уже ждет. Я бросаю взгляд на лицо таксиста и благодарю судьбу за то, что мне послали угрюмого молчуна. Сажусь на заднее сиденье, называю адрес и смотрю в окно, пытаясь вжиться в город, знакомый с самого детства. Мою энергичную, живую, размашисто шагающую в будущее Москву, у которой что ни день появляются сотни новых детей, и это ее ничуть не пугает.
Однако не всем дана такая храбрость, подобная уверенность в себе. Не все так любят тишину, как я. Тишину, что поджидает меня за порогом моей квартиры, который я перешагиваю, как Цезарь Рубикон. Жребий брошен. Начинается братоубийственная война.
Бросив у порога сумку, я наспех переодеваюсь, беру ключи от машины и гоню ее на Третье транспортное кольцо, которое в это время бывает свободнее, чем Садовое. За рулем чувствую себя немного неуверенно, навыки ослабели, и приходится обдумывать каждое действие. Москва за окном кажется ирреальной, я отвыкла от нее. Тот кусок двора, что был виден из окна палаты, я еще научилась воспринимать как часть действительности, но целые улицы, бульвары, площади будто проступили из другого мира. Похожего на мой, но все же незнакомого. Так бывает, когда поднимаешься после гриппа, и, ступая как по вате, выходишь на улицу…
Я еще пытаюсь уговорить себя не делать глупостей, пугаю неизбежными проблемами, которые возникнут уже сегодня, не заставят себя ждать. Но все эти разумные доводы проходят сквозь меня, как песок сквозь песочные часы. И в памяти остается только одно: ту тоску, что воет во мне, не унять, пока я снова не прижму к груди мою девочку.
И я несусь навстречу закату, который смеется мне в лицо, напоминая, что моя дочь уже сутки провела в своей розовой постельке, что приготовили для нее с любовью, а мне ее даже положить некуда. В ящик стола? В чемодан? Так тоже делали мои сестры по перу, только их-то на это вынуждала нищета. А я просто не позаботилась заранее. Даже мысли не допустила, что могу передумать, обезуметь от одного прикосновения…
Я оставляю машину поодаль, чтобы Лера не заметила ее из дома, и, прячась за деревьями, пробираюсь к крыльцу. Оставшийся у меня ключ, про который сестра просто забыла, греет и руку, и душу. Осторожно, будто дверь рассыплется от резкого движения, проворачиваю его в замке и прислушиваюсь. В холле замираю: голоса доносятся то ли из кухни, то ли из ванной. И я бросаюсь к лестнице, превозмогая слабость в коленях, взлетаю на второй этаж, врываюсь в розовую спаленку… Но колыбелька пуста. Я будто проваливаюсь во вчерашний день: ее увезли еще дальше, спрятали от меня окончательно. И только спустя пару минут догадываюсь, что Лера с Егором купают ее, их голоса действительно доносились из ванной.
В замешательстве оглядываюсь, будто надеюсь заметить какой-то знак, и вижу на кресле раскрытую тетрадь, обложка которой мне знакома. Моя сестра, увязшая душой в Серебряном веке, до сих пор ведет дневник… Мне никогда не доводилось заглянуть в него, да не особенно и хотелось. Но сейчас я делаю на него стойку, как гончая, хотя еще не отдаю себе отчета, что надеюсь найти там. И все же пролистываю с конца неисписанные листы, нахожу сегодняшнюю запись, и, не включая света, прижимаюсь к окну.
«Маленькая девочка… Чудесная моя девочка… Мое открытие, мое откровение (перед миром или перед собой?), моя нежность до слез от одних этих слов: «Маленькая девочка… Чудесная моя девочка…»
Тебе пять дней от роду. Про этот срок никак не скажешь: целых пять дней. И все же для тебя и для меня это эпоха глубиной в бесконечность. И бесконечность эта тянется в обе стороны: туда, где тебя еще не было, и туда, где ты будешь вечно. «Как любой из нас, вдохнувший в этот мир свое «я», — требует добавить справедливость. Но ты — не любая, моя грядущая боль ежедневности. «Вышла во двор?!» — вот ужас трагедии, ведь не на глазах же! Сердце разрывается от расстояния… Мне никогда не насытиться этим будущим страданием, этой уже сегодняшней влюбленностью в каждый взгляд (ах, какие же у тебя глаза, Анастасия…), этой ежеутренней солнечной радостью встречи.
Ты так мала… Ручки твои еще не пухлы картинно, в них еще суетливость маленького жучка, и пальчики — белые вермишельки с утонченными лунками ногтей…. Пишу эти слова, а из леса, что вокруг нашего дома, доносится девчоночий голос, который кроет отборным матом… Убереги себя от этого, девочка моя. Будь «ею» — солнечной сказкой, легко ступающей над землей, радостью, способной просочиться в любую жизнь, окрасить ее золотой пыльцой и полететь дальше, по одной тебе ведомому пути, намеченному ветром начала июля, днем Ивана Купалы.
Почему ты родилась именно в этот день, загадочная моя душа, крошечная и великая, чье явление природа приветствовала такой грозой, что люди приседали от страха? Нам только предстоит узнать это. Разгадать… Нет, хотя бы попытаться выведать, что несет в себе это маленькое существо с мягким, шелковистым лобиком и солнечным пушком волос. Маленькая девочка… Чудесная моя девочка…
Тебе уже посвятили стихи, и даже не я. Бог мой, что будет дальше? Плененный мир, груды разбитых сердец? Нет. Кому это надо? Такие завоевания не дают счастья, потому что все уже разрушено. Создать такое чудо, как ты, — вот счастье. И я никогда не смогу им насладиться.
Все в твоей жизни сейчас первое: стихи, посвящения, музыка — Четырнадцатая бетховенская соната (две твоих счастливых семерки — седьмое июля — в номере!). Она звучит сейчас только для тебя, ее играет за стеной твой отец… Однажды тебе предстоит понять, что в этом страдании и затаенной — и все же не скроешь! — страсти нет ничего «лунного», хотя лишь под этим именем ее и знает весь мир. Люди не всегда понимают чужую боль, и совсем немного тех, кто может выразить ее словами. Разве я могу объяснить, почему у меня, никогда не отличавшейся особой сентиментальностью, так и льются слезы, когда я думаю: «Маленькая девочка… Чудесная моя девочка…»?
Уже звучит «Ноктюрн» Рахманинова, и ты вдруг улыбаешься ему во сне. Пока ты умеешь улыбаться только своим снам, и я верю, что в них — воспоминания о твоем прошлом счастье и предчувствие грядущего. Младенцы — безмолвные пророки… И не надо, не рассказывай нам этого! Просто запомни это ощущение полета до замирания в груди…
Музыка явно знакома тебе. Может, когда-то Рахманинов и написал ее для тебя? Играл тебе… Ты на секунду приоткрываешь глаза — темный агат. Когда ты окончательно проснешься, их взгляд снова станет быстрым, живым, мгновеньями даже лукавым — это в пять-то дней от роду! Одного мужчину — своего отца — ты уже пленила этим взглядом. И он в первый же час, только увидев тебя, взяв на руки, заболел от любви, хотя любой врач назвал бы это простудой. Но я-то знаю, как болеют любовью…
И вновь Рахманинов. И ты опять улыбаешься. Ах, Сергей Васильевич, неспроста я всегда чувствовала некое глубинное родство с вами! Что звучало для вас в этом имени — Анастасия? Разве ее могли звать по-другому?
Воскресшая. Это уже больше относится ко мне. Она — моя воскресшая юность. Нет, детство. Это мне сейчас пять дней, и это я внимательно изучаю рафинадные плитки потолка — одну из граней моего нового мира, сулящую сладкую жизнь. А через семь (опять семь!) лет именно мое сердце будет выпрыгивать от радостного страха перед надвигающимся разноцветным смерчем школьной жизни. А в четырнадцать я опять угожу в это горе, светло именуемое «первой любовью», и в этом чувстве вновь не будет ничего «лунного»…
А своего короля-рыцаря я встречу гораздо позднее, и вот тогда все станет, как в той сказке: они жили долго и счастливо. Вот только сказочник скрыл от мира, что у них была чудесная кареглазая девочка, которую звали Анастасия…»
— Значит, у нее мои глаза…
Произношу это машинально, думая совсем не об этом или не только об этом, но еще и том, сколько материнской любви до сих пор таилось в сердце моей сестры, и как, оказывается, здорово она пишет. И еще о самом неожиданном, что резануло до того, что впору орать от боли: стоит ли мой талант того, чтобы принести ему в жертву все человеческие радости?!
Вспомнив, что меня могут застать на месте преступления, я сбегаю вниз и выхожу за дверь, чтобы сделать вид, будто только пришла. Сажусь на крыльцо, как всегда сияющее белизной — на это у Леры есть приходящая прислуга, — и пытаюсь расслышать звуки засыпающего леса. Но его тьма молчалива, даже юные матерщинницы, так возмутившие мою сестру, уже разбрелись по домам.
Я кручу в пальцах ключ от Лериного дома и думаю, стоит ли мне снова входить туда. До сих пор я калечила судьбы только своим героям, но они не могли быть на меня в претензии — такая уж судьба им была уготовлена. Но живым людям я не причиняла особого зла… Но тут же меня настигает звук детского голоса: «Не отдавайте меня ей!» И, передернувшись от боли, я понимаю, что та девочка, которую мне так хочется увидеть сейчас, выкрикнула бы, если б смогла, обратное: «Отдай меня ей!»