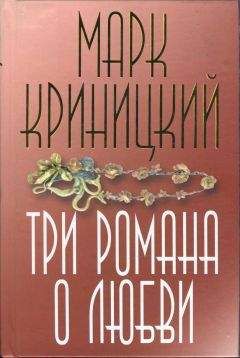Он усмехнулся.
— Ты рассуждала бы логично только в том случае, если бы у нас, у людей, был хоть какой-нибудь способ избежать той ошибки, о которой ты говоришь. До сих пор мы этого способа не знаем, и приходится просто полагаться на благородство друг друга.
— Значит, ты счел бы с моей стороны благородством, если бы я лишила моих детей отца и отдала бы тебя без боя какой-нибудь потаскушке? Наши понятия о благородстве в этом пункте сильно расходятся: что с твоей точки зрения благородно, то с моей малодушно и преступно… Но не будем долго спорить на эту тему. Повторяю тебе еще раз: ты можешь вернуться в мой дом только по-прежнему — мужем и отцом твоих детей. Разумеется, все, что было, я охотно предам забвению. В человеческой жизни возможны отдельные ошибки. Кроме того, я тебя люблю по-прежнему и знаю, что никто никогда не будет тебя любить так.
Голос ее внезапно оборвался.
— Разумеется, я не святая. Я это знаю очень хорошо. Но, может быть, ты думаешь, что Раиса Андреевна лучше? Поверь мне, все женщины одинаковы. В тебе говорит сейчас глупый мужской самообман. Через несколько месяцев ты будешь точно так же разочарован в ней, как разочаровался когда-то во мне. И что же, ты пойдешь тогда к третьей, к четвертой, к пятой, десятой! О, милый! Я заклинаю тебя Богом и нашими малютками! Вспомни наши лучшие дни! Вспомни, как нам казалось, что мы представляем с тобою одно нераздельное существо. Неужели же ты скажешь сейчас, что в наших ласках всегда была только одна лицемерная, непрерывная ложь? И почему ты думаешь, что любовь должна вечно оставаться в состоянии первоначального экстаза! Вслед за бурною ночью приходит светлое лучезарное утро. О, Васючок! Возврати мне это безоблачное утро моей жизни. Не омрачай своего сердца злобою, будь со мною щедр, как Бог. Ведь ты же и на самом деле мой Бог. Ты мой свет и мой мир. Вне тебя, за границами твоей души и твоего тела, я уже ничего не вижу. О, сжалься же надо мной! Васючок! Васючок!..
Она плакала. Он тоже, стоя у телефона, едва удерживал слезы.
— Подумай, ты вернешься опять в твой милый кабинетик и зажжешь твою тихую лампочку. Наша жизнь потечет так, как она текла всегда, долгие годы, без всякого перерыва…
Он уже улыбался. Потом ему сделалось гадко. У этой женщины душа, которая может вместить решительно все. Она говорит сейчас об его душе, но на самом деле ей нужно, чтобы был только «кабинетик». И в кабинетике сидел бы он, ее муж, ее вечный наймит и невольник, которого она без тени брезгливости может удерживать при себе скандалом и угрозами и потом, нежно обнимая, вместе с ним спать.
— Я не знаю, что тебе на это ответить, — сказал он. — Все это чисто наружное, не настоящее… то, от чего мы ушли и к чему я уже не хочу возвращаться.
— Да? Ты не хочешь? Так будь же ты проклят. И пусть будет проклят день и час, когда я встретилась с тобою! Пусть будет проклят тот плод, который я ношу в себе! Слышишь, негодяй? Проклят! Проклят!
Она повысила трубку. Он стоял дрожащий и жалеющий, что не взял у Курагина револьвера.
Хотя было уже поздно, он вторично отправился к Курагину. Было жутко оставаться одному у себя в номере. Все еще не верилось, что нет разумного и порядочного выхода. Ведь другие же как-то устраиваются?
«Другие»! Но Варюша не из их числа… Неужели ей не жаль детей? Дети, наверное, напуганы, плачут… Да, конечно, видно, не жаль.
Теперь он испытывал против нее только злобу. Все должно иметь границы. Даже ревность. То, что совершает Варюша, есть несомненное преступление.
— Ну, что? — спросил Курагин. — Чем у вас закончилось?
Лицо его было неожиданно ласково.
— Опять ничего? Ерунда! Все помаленьку устроится. Давай-ка закусим, чайку попьем…
Должно быть, ему это все надоело. Петровскому стало неприятно, что он опять к нему приехал. И в самом деле, с какой стати товарищ должен нянчиться с ним? Вероятно, нет ничего неприятнее, как впутываться в чужие подобные дела.
— Я сейчас поеду, — сказал он, конфузясь и торопясь. — Ты мне обещал револьвер…
— Револьвер? Представь, полчаса назад у меня был Валентинов и выпросил его у меня. Он живет на даче, а жена боится… Ах, как жаль!
Он врал слишком подозрительно.
«Наверно, что-нибудь Варюша», — решил Петровский.
— Да ты постой, посиди… куда тебе торопиться? Мне в голову пришла одна замечательная мысль. Я рад, что ты приехал. Дело, понимаешь ли, в том, что тебе самое лучшее просто помириться с Варварой Михайловной. Плюнь и помирись. Ведь это же в самом деле только супружеские дрязги. Ну, ты увлекся, она приревновала, и вы квиты. Из-за чего, не понимаю, огород городить? Прожили столько лет душа в душу… Ты подумай только! Ведь плакать хочется, ей-Богу (он обнял Петровского за талию). Ну, ладно, выгнала она тебя, — так ведь это же любя. Ну, по щеке смазала один-другой раз…
— Она меня ударила только один раз…
— Ну, вот, ну, вот… видишь, всего только один раз.
— Значит, если тебе плюнуть в физиономию всего один раз, то ты утрешься и больше ничего?
— Так ведь то плюнуть… А разве она в тебя плевала?
Петровский улыбнулся.
— Уж скажи просто, что с тобою говорила по телефону Варвара Михайловна. По крайней мере, будет честнее и не так глупо.
Курагин сконфузился. Потом глаза его осторожно забегали. Он прищурился и протянул Петровскому руку.
— Ну, ладно, сознаюсь: звонила. Так ведь почему звонила? Ведь потому, что любит. Да, да, да, любит и так любит, как никто уже никогда тебя любить не будет. Без напыщенности, без пафоса, трезво и прочно. Дорогой мой, поверь, что это только один нездоровый кошмар, вся эта так называемая угарная любовь. Что может быть лучше любви спокойной, тихой, у себя дома, за камельком?
Он сделал сладенькое лицо. Петровский хохотал.
— Ну, хорошо, пусть это немного смешно. Ну а это не смешно: ездить с какой-то полузнакомой женщиной по ресторанам, прятаться с ней в закрытых автомобилях, ночевать в номерах, в сорок лет разыгрывать из себя влюбленного Ромео! Брось! Я тебе говорю: брось! Ведь ты же пропадешь, а вместе с собой погубишь и ее, и детей. Она прямо так и говорит, что ни перед чем не постоит.
— Так это, значит, детей погубит она, а не я.
— А тебе от этого будет легче?
— Меня возмущает эта игра на детях. Дети должны быть ни при чем. Ради достижения своей личной цели, удовлетворения грубой похоти она готова пожертвовать даже детьми. Ведь это же преступление.
— А твоя страсть к этой Раисе Андреевне, небось, какая-нибудь особенная, тонкая? Полно, брат, полно. Ты не годишься для мелодекламации. Для этого у тебя нет таланта.
— Значит, ты хочешь, чтобы я опять добровольно лег в могилу?
— Зачем в могилу? Варвара Михайловна тоже не прочь пойти на уступки. У ней, брат, оказывается, гораздо более здравого смысла, чем…
— Какие же это уступки? — спросил Петровский нетерпеливо.
Он так не привык слышать, что Варюша может идти на какие-нибудь уступки. Курагин замялся.
— Я, понимаешь ли, не умею так тонко выражаться, а Варвару Михайловну я все-таки не могу не уважать. Убей меня Бог, она цельная, настоящая, крупная женская натура… Словом, выражаясь аллегорически, она предлагает тебе спать в отдельной комнате. Есть у вас какая-то там «угловая».
Он насмешливо смотрел на Петровского. Видимо, его забавляла эта торговля.
— По-моему, предложения выгодные. Чем ты рискуешь? А?
— Так ведь это один разговор.
— Говорит: поклянусь… Ну и ты, чтобы тоже. Соглашайся, Вася. Смотри: ты человек тяжелый, сырой, а сегодня еще вдобавок и отсыревший. Неужели же ты, как мальчишка, бросишь из-за любви к этой самой Юлии все твои дела, твоих пациентов, науку, общественную деятельность, наконец, детей?.. Ведь это же, брат, бесчестно. Право, бесчестно. Ты не мальчишествуй.
— Да, вот только детей.
Оба они продолжали стоять в передней, Петровский — даже не раздеваясь. Он молчал и думал. Ясно представлял себе плачущие личики Волика и Муси. Старался не думать ни о Раисе, ни о чем подобном.
— Что же, значит, опять в хомут? — спросил он Курагина жалобно.
— Да, брат, Вася, в хомут, в хомут.
Петровский опустился на стул.
— И, значит, так до самой смерти?
Он продолжал наивно ожидать чего-то от Курагина.
— Да, уж так, дорогой, конечно…
Вдруг отчетливо вспомнились дни и ночи, проведенные в Петрограде. Старался ясно представить себе Раису. Почему она уехала? Он не мог этого понять. Это было ничтожно, мелко, несправедливо…
— Значит, конец всему?
Поднял голову и посмотрел на Курагина, который продолжал что-то говорить…
— …Я буду по-прежнему к вам приезжать…
Петровский усмехнулся.
— Ты эгоист, — сказал он. — Вези меня, куда хочешь. Я чувствую, что умер.
— Пустяки, ты просто увлекся…