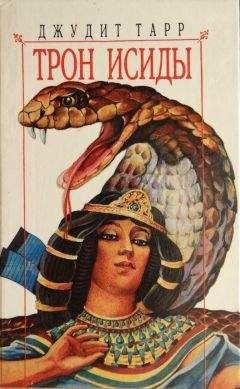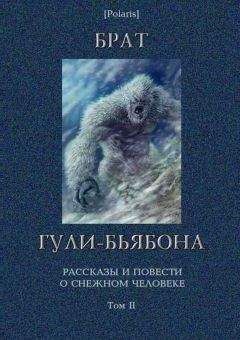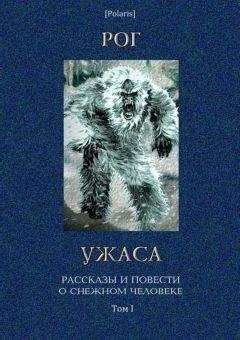— Зима? — рявкнул Антоний. — Великий Геркулес, еще только октябрь!
— Октябрь в Мидии, — спокойно сказал Канидий, — совсем не то, что в Риме или Египте, где солнце почти никогда не прячется в облака. Оставшись здесь, мы не доживем до весны — замерзнем до смерти или нас перебьют мидийские лучники.
Антоний недоуменно уставился на него.
— Ты предлагаешь мне поджать хвост и ползти назад к морю?
— Я предлагаю тебе мудрое отступление, пока еще возможно. Между здешним царством и «дружественной страной» скверная местность; если мы еще задержимся, эти горы будет трудно или вообще невозможно преодолеть.
— Тогда мы останемся здесь.
Канидий глубоко вздохнул, словно призывая себя к терпению.
— Марк Антоний, здесь мы погибнем. Это ясно как день. Мы и так уже на урезанном пайке. А когда эти земли скует зима, останемся вообще без пайка. Мы должны уходить отсюда прямо сейчас, если вообще хотим убраться подобру-поздорову.
— Атропатену нам не взять, — сказал чей-то голос. Луций Севилий с изумлением обнаружил, что голос принадлежит ему самому. Подобные мысли не раз приходили ему в голову, но он не был голосом богов, как Диона; до сих пор ни один бог не говорил посредством него.
Антоний перевел взгляд с Канидия на Луция.
— А кто считает, что мы проигрываем войну?
— Мы все, — ответил Луций, хотя в прежние времена постарался бы уйти от ответа.
Интересно, чувствует ли то же самое Диона, когда говорила то, что приходит ей в голову. Это оказалось захватывающим, хотя и немного жутким — как скакать галопом по горному склону.
— Все мы, и тебе это известно, — повторил он, раз уж приговорил себя наугад броситься со скалы. — Не ударь армяне нам в спину, у нас были бы сейчас обозы и машины, и мы бы уже возвращались с золотом Парфии в повозках. Но теперь мы ничего здесь не добьемся, а если все же пересидим зиму и доживем до весны, на нас обрушится парфянская армия. Конечно, ты волен делать эту гиблую ставку.
— Можно подумать, — съязвил Антоний, — что ты подсмотрел эти милые сценки в волшебном зеркале.
Луций засмеялся. Некоторые жрецы, случалось, убивали словами, но для него смех был естественнее и легче и в какой-то степени являлся более грозным оружием.
— Не беспокойся, Марк Антоний. Если ты нас вынудишь, мы останемся, ведь иного выбора нет. Останемся во вражеском царстве, под носом у надвигающейся зимы. Но мудрый полководец знает меру: он понимает, когда необходимо остановиться, прекратить терять людей и отступить. Твои люди по-прежнему принадлежат тебе и душой, и телом, но даже они готовы вернуться домой — или по крайней мере в Египет.
— Вот теперь-то я знаю, что чувствовал Александр в Индии, — пробормотал Антоний, встал со стула и начал мерить шагами пол палатки, издавая звуки, похожие на рык льва, запертого в клетке. Остальные расступились, давая ему дорогу; он рявкнул на них и внезапно остановился: — Боги всех вас развратили и лишили разума. Какие из вас теперь воины? Ну что ж, готовьтесь. Завтра утром мы выступаем.
Луций не ощущал триумфа — победа далась ему слишком легко. Утром они никуда не тронулись — бестолковая суматоха задержала их еще на два дня. Люди были взвинчены, и не одна драка была прекращена как раз вовремя, пока не пролилась кровь. Но в целом все были счастливы поскорей убраться восвояси из этого гиблого места. Между собой воины называли его гораздо более крепкими словами, за что Луций Севилий не мог их винить.
На третье утро, под солнцем, казавшимся неестественно теплым после внезапной мерзкой пурги, по тающему снегу воины двинулись в долгий поход назад к морю. Звучали песни, и незнающий человек мог бы подумать, что армия возвращается с победой. Поначалу вражеские отряды не преследовали их; казалось, Мидия так же рада видеть их спины, как и они счастливы послать ее к черту.
Вскоре пение заглохло: воины с трудом пробивались сквозь снег, а когда солнце взялось за работу и колонна растянулась по дороге от Атропатены — и сквозь глубокую вязкую грязь. К вечеру грязь подморозило, а к закату она стала как железо.
А потом появились враги.
Позднее Луций Севилий немногое мог вспомнить об этом долгом жутком походе. Двадцать семь дней, как они подсчитали — если только вообще можно было сохранить силы и мозги, чтобы считать, — шли воины Антония от Атропатены до глубоких стремительных вод Аракса, бешено несшегося между Мидией и Арменией. Они пережили восемнадцать сражений — сражений в полном смысле слова, — а также бесчисленные стычки и бесконечную спешку, в попытках увернуться от мидийских всадников и парфянских лучников — то, чего не успевал враг, доделывали сама местность и воздух, отравленный болезнями. Мужчины падали и на полях боя, и на марше.
Луций потерял коня в третьем сражении — или в четвертом. Он не просил замены — другие нуждались в лошадях больше. Недуг уже подкрадывался и к нему, но он не отдавал себе в этом отчета: воинов постоянно трясло от жара — а он еще мог идти. Опустив голову, Луций Севилий упрямо шел вперед, стараясь особенно не расслабляться — случай еще одной, новой, неожиданной битвы.
Лихорадка сражала их так же часто, как удары меча или полет стрелы, их тошнило на снег.
— Луций! Эй, Луций Севилий!
Он поднял голову, тяжелую как камень, — египтяне говорят, что даже мертвый должен отозваться на звук своего имени. Что-то массивное нависло над ним. Медленно он распознал всадника на коне: огромный цветущий мужчина — несмотря на лишения, — большой черный конь…
— Антоний, — слабо проговорил он.
— О боги! Да ты кошмарно выглядишь! — сказал властелин Восточного мира. Они уже приблизились к границам Мидии. — Тебе худо?
— Ничего страшного. Я вполне могу идти дальше.
Он бросил взгляд искоса: Антоний сиял — в прямом смысле слова, словно солнце над тучами. Луций подумал, что сверкают его золотые доспехи, но сегодня не было солнца, лучи которого могли бы зажечь такой огонь. Облака набухли от снега, и первые хлопья уже падали вниз.
Антоний что-то говорил, но Луций не мог сосредоточиться, чтобы разобрать слова. Потом он понял, что внезапно очутился наверху, затем ощутил под собой коня — а Антоний смотрел на него снизу вверх. Он поглядел на свои руки, оказавшиеся на густой черной гриве, и затем — на лицо Антония.
— Нет, — только и смог произнести он.
— Брось, — отмахнулся Антоний. — Да и потом, я ведь тебя знаю — ты можешь ехать верхом и во сне, я видел. Только не слишком бей его по бокам. От этого он взвивается на дыбы.
— Я не… — начал Луций Севилий.
Но Антоний уже ушел, смешавшись со строем легионеров — он похлопывал по плечу то одного, то другого и улыбался, подбадривая своих солдат. Луций, усаженный на жеребца триумвира, не находил достойного способа спуститься вниз. Все, кто не смотрел на Антония, разглядывали его с весьма недвусмысленным выражением. Похоже, кое-кто даже смотрел так, словно ему следовало бы снести голову за столь щедрый дар полководца.
Возможно, он еще долго раздумывал бы над этим, но конь Антония закусил удила и понесся вперед. Однако Луций Севилий не упал; Антоний был прав — он мог держаться в седле, что бы ни вытворял жеребец. Это он умел делать отменно.
Черный конь Антония ринулся туда, где привык находиться всегда — во главу армии. У Луция кружилась голова от лихорадки; он был слишком слаб, чтобы сопротивляться, и пришлось подчиниться. Но теперь, по крайней мере, он мог сидеть прямо, и дурнота немного отступила. Не посади его Антоний на коня, неизвестно, сколько бы он еще протянул.
Однако теперь он стал неплохой мишенью для врага, и если его подстрелят, преимущества его нового положения явно потеряют свою прелесть. Но что толку об этом думать, если все равно ничего не изменить, как сказала бы Диона. Луций даже словно слышал ее слова.
И еще — он физически ощущал, что рядом нет теплых рук, обнимавших его, тепла ее тела, на котором покоилась его голова. Больше он ничего не хотел — мысль, порожденная лихорадкой, была необычайно ясна — с тех самых пор, когда впервые увидел ее в Тарсе, на корабле Клеопатры.
Если только он доживет до того дня, когда снова увидит Диону, то ни за что не позволит ей отказать ему. На сей раз — нет. Каким же дураком он был, с места в карьер сделав ей предложение, сразу же, не дав опомниться, привыкнуть к мысли, что она снова видит его после такого долгого отсутствия. Надо было терпеливо ждать ее благосклонности, ухаживать за нею, завоевывать ее как подарок судьбы — именно так поступают умные любовники. Она должна была понять, что любит его.
Диона любит его, здесь нет сомнений. Но, возможно, пока не знает этого. Она была немного отстраненной, холодноватой — муж-педант приучил ее к сдержанности. А то, что она александрийка, еще ухудшало дело. Александрийцы — странные люди, самые странные из всех известных ему народов. Они склонны все называть своими именами и думают, что тем самым становятся хозяевами вещей и явлений. Но разве это хоть на йоту увеличит понимание того, что стоит за названиями?