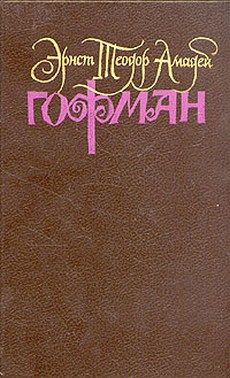— Это верно, — сказала она наконец, — жениться надо на той, которую любишь. Только на ней. Но в нашем роду никто не женился на батрачках… а что касается любви, то о ней тебе еще рано судить.
Олави вспыхнул и хотел возразить, но лицо матери показалось ему таким умудренным и гордым, что мысль его застыла, не вылившись в слова.
— Иди, сынок, ложись спать, — ласково сказала мать. — Мы поговорим об этом в другой раз.
Завтрак кончился, батраки встали из-за стола и отправились на работу.
— Постой-ка, Олави! — донесся с задней скамьи голос старшего Коскела. — Нам надо потолковать.
Олави почувствовал, что у него вспыхнули уши. Он знал, о чем хочет говорить отец, и со страхом ожидал разговора.
Они были втроем, — мать стояла у плиты.
— Садись! — холодно донеслось из заднего угла. Олави сел. Наступило молчание.
— Мне известно, куда твоя мать ходила этой ночью. Неужели тебе не стыдно?
Олави опустил голову.
— Стоило бы дать тебе хорошую затрещину, и ты пока не радуйся, что обошлось без нее.
Олави не смел поднять глаз, но по голосу отца догадался, что буря еще только надвигается.
— Какие у тебя намерения? — снова загремел отцовский голос. — Награждать батрачек потомством — так, что ли?
— Отец! — воскликнула мать, и в лице ее мелькнуло предчувствие беды.
Отец посмотрел на нее холодно и зло.
— А потом ты приведешь этих ублюдков сюда и посадишь их на шею родителям?
Кровь бросилась в лицо Олави. Неужели это его отец? Кажется, какой-то чужой, грубый человек проник в их дом. Олави чувствовал, как что-то в нем сгущается и нарастает. Он поднял голову, хотел ответить, но вместо этого встал и пошел к двери.
— Куда?! — загремел отец.
— В поле!
— Ах, в поле?! — Казалось, этот голос хочет схватить его за шиворот. — Ты никуда не уйдешь, пока не ответишь мне. У тебя такие намерения?
Олави колебался. Еще минуту назад, полный стыда, он был готов принять любые условия. Теперь все изменилось. Он чувствовал, что обязан нанести ответный удар ради всего того, что бурлило и таилось в его крови в течение последних дней. Он круто повернулся, вскинул голову и гордо ответил:
— Нет, не такие! Я хочу на ней жениться!
Отец взглянул на него насмешливо, но, увидев глаза сына, растерялся.
— Жениться?! — крикнул он и подался вперед, будто плохо расслышал.
— Да! — еще увереннее отвечал Олави. Казалось, он мстит за нанесенное себе и девушке оскорбление и потому действует оружием, острым как бритва.
— Я женюсь на ней!
— Щенок! — донесся от стены голос, похожий на рев раненого зверя.
Старик в ярости метнулся к двери, схватил веник, рванул сына за шиворот и бросил его на колени.
— Щенок! — снова проревел он, и веник взвился в воздухе. Но он тотчас же отлетел, и вместе с ним отлетел и сам старик. Словно мяч прокатился он через всю кухню.
Казалось, будто гром грянул. Отец чувствовал себя как разорившийся барин перед батраками. Не было у него больше власти над этим «щенком» — не только отцовской, но даже просто физической. А тот, молодой, стоял у двери, высоко подняв голову, в полном расцвете сил, и в глазах его горела угроза.
— Ах так? — раздался наконец его голос, подавленный, задыхающийся.
— Так! — взволнованно и грозно отвечал сын.
Отец отбросил веник, подошел к скамье и сел.
— Если в твоих жилах течет моя кровь, — сказал он, немного помолчав, — то ты знаешь, что из этого следует.
— Знаю! — подтвердил сын. — И ухожу сейчас же!
Мать горестно стиснула руки, сделала шаг вперед, открыла рот, собираясь что-то сказать, но поглядела в глаза сначала одному, потом другому и замерла, не произнеся ни слова.
— Я многого ждал от тебя, — холодно говорил отец. — Но ты не соизволил стать ни барином, ни ученым человеком, хотя мозгов у тебя на это и хватило бы. Через два года ты забросил свои книги в угол и пожелал стать крестьянином. Но и у крестьянина тоже есть свои книги. Теперь ты швыряешь их в постель батрачки.
Олави выпрямился, и глаза его блеснули.
— Помолчи! — крикнул отец. — Лучше помолчи!
Он встал, постоял немного в задумчивости, потом вышел из кухни в комнату. Там он открыл комод и порылся в нем.
— Сын Коскела не станет просить милостыню! — гордо произнес старик, возвращаясь в кухню и протягивая что-то сыну.
— Спрячьте их на прежнее место! — так же гордо ответил сын и, уклоняясь от отцовского дара, бросил через плечо: — На них далеко не уедешь, если сам себя прокормить не сумеешь!
Отец остановился и поглядел на сына.
— Хорошо, если сумеешь себя прокормить! — сказал он, скорее довольный, чем огорченный.
Сын постоял минутку, над чем-то задумавшись.
— До свиданья, отец! — услышал старик, но ничего не ответил и только поглядел на сына из-под насупленных бровей.
Мать опустилась на скамью у окна. Она сидела боком к сыну, глядела в окно, и на подоконник капали ее слезы.
Олави медленно подошел к ней. Мать повернула голову, посмотрела на сына, и оба вышли из кухни.
Отец заметил, как встретились их взгляды. Что-то кольнуло его в груди, лицо его покраснело, губы дрогнули, но он не произнес ни слова и не двинулся с места.
В сенях мать схватила сына за руку:
— Олави!
— Мама! — взволнованно ответил ей юноша. — И, боясь, что не сдержится, торопливо добавил: — Я все понимаю, мама. Не говори ничего.
Но мать крепко держала его за руки, смотрела ему в лицо расширившимися глазами и шептала:
— Мы тогда не договорили, Олави, и я должна тебе сказать. Ты — сын своего отца, и, совершая что-нибудь, вы оба не задумываетесь над тем — строите ли вы или рушите. — Голос ее зазвучал как заклинание. — Никогда никого не обманывай, если что обещал — выполняй, к какому бы сословию ни принадлежал человек.
Сын сжал ее руки, не в силах сказать ни слова.
— Храни тебя бог! — услышал он ее дрогнувший голос. — Не забывай о своем доме, вернись, когда…
Сын еще раз сжал ее руки и быстро повернулся. Он чувствовал, что должен уйти немедленно, если вообще хочет уйти
По ночному небу плыли тучи, берега склонились над темными водами и вглядывались в медленное движение бревен. «Спускай!» — доносился снизу рев порога.
Под обрывом полыхал небольшой костер. Вокруг него улеглись четверо сплавщиков. Шлюзы открыли недавно, и бревна плыли по реке свободно, не цепляясь друг за друга. Заторов не было. Сплавщики беззаботно коротали ночь. Они пели:
Крестьянин на мягкой перине,
Укрыт одеялом, храпит,
А сплавщик на ложе из дерна,
Накрывшись росою, спит.
Навряд ли бы мы поменялись,
Хоть дай нам сто марок вперед,
В сравненье со сплавщиком этим
Крестьянин никак не идет.
Вдруг порог яростно взревел, точно сбросив с себя ночную дрему. Дозорные, сидевшие на прибрежных штабелях, встрепенулись. Те, что были ближе к костру, повторили припев:
В сравненье со сплавщиком этим
Крестьянин никак не идет.
От одного штабеля припев полетел к другому, перекинулся с берега на берег и покатился вдоль потока от дозорных к дозорным, пока не стих где-то далеко за порогом.
Полночь не любит песни, хотя она и мирится с коротким приветствием, летящим от человека к человеку. Полночь охотнее слушает поверья реки о жестоком речном божестве, которое требует человеческих жертв. Каждое лето оно поглощает хотя бы по одной жертве, и ему безразлично — взрослый это или ребенок.
Все стихает вокруг, когда река принимается петь свои суровые руны. Слушатели сидят молча, как в церкви, они не отрываясь смотрят на воду, и даже самым дерзким тогда не до шуток. Каждый вспоминает о том, чему сам был свидетелем: один видом, как ушел под воду взрослый мужчина, точно невидимые руки утянули его в пучину, другой слышал рыданья вдовы или плач сирот, а были и такие, ЧТО замечали на утопленнике следы безжалостных пальцев речного владыки. Кое-кому случалось угадывать и самого владыку, плывущего под водой в летнюю полночь. Одни только пенящиеся волны указывали на его путь. В такую полночь каждый ждал: кому выпадет очередь нынче летом? Но не дано человеку знать о несчастье даже тогда, когда оно стоит уже рядом с ним.
Костер продолжал гореть, шум воды становился тише. Молча сидели сплавщики, глядя на реку и слушая полуночные преданья воды.
Вдруг снизу донесся громкий крик. Сплавщики вскочили на ноги.
— Закрыть шлюз! Закрыть шлюз! — разнеслось над рекой.
— Слава богу, — вздохнули дозорные, которым померещился было крик о помощи, и подняли багры над головами в знак того, что где-то образовался затор.