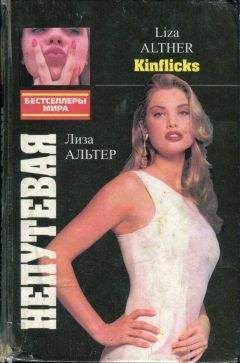Мона сардонически хмыкнула. Эдди вздрогнула.
— Понимаю. Добро пожаловать к нам. Живите сколько хотите, — предложила Эдди.
— Будем откровенны, Мона, — сказала Этель. — Это назревало давно.
Она шаркнула топором по точильному камню и попробовала острие на мозолистом большом пальце. Мона согласно кивнула. Они обе курили, глубоко затягиваясь.
— К этому все шло, — продолжала Этель. — Они хотели целыми днями развлекаться, а женщины должны им варить.
— Нет! — заявила Эдди. Она подвинула кресло так, чтобы сесть за мной, и стала бережно расплетать мою косу.
— Да, — подтвердила Этель. — Они могли безапелляционно ткнуть пальцем в пустую чашку и приказать налить чай.
— Не верю…
— Понимаю, но это правда. Для них это было игрой: они — Тарзаны, мы — Джейн.
— В результате все приходилось делать нам с Этель, — вмешалась Мона. — У Лаверны свои дела, но нам они кажутся мерзостью.
— Не то слово, — с отвращением сказала Эдди, расчесывая мои спутанные волосы.
— Они не виноваты. Их так воспитали матери-мазохистки, трясущиеся над ними и исполняющие любое их желание. — Я очень хорошо знала по своему собственному опыту, что говорю. — Они — буржуа. Их не переделать.
— Верно, — согласилась Мона. — Интересно, в какой момент эти отвратительные черты характера передаются детям? И почему дети часто бывают хуже родителей?
Мы задумались над этой проблемой. Этель методично точила топор о камень. Эдди встала, подбросила в топку дров и снова занялась моими длинными волосами. От звука топора казалось, что кто-то царапает ногтями по классной доске.
— Господи! — вздохнула Мона, поглубже устраиваясь в кресле. — Этот скрип сведет меня с ума.
Через пару минут Этель удовлетворенно смазала топор и вложила в коричневый кожаный футляр с таким видом, с каким мать купает, смазывает и пеленает любимое дитя.
— Спасибо, что приютили нас, — сказала она.
— Мы рады, что вы здесь, — ответила Эдди. — Две спины нам никак не помешают: на этой земле столько работы.
Я засмеялась.
— Что тут смешного? — ласково спросила она.
— Меня еще никогда не называли «спиной». «Башка», «кусок задницы» — только не «спина». Это что-то новенькое.
На следующий день Этель учила нас рубить деревья. Небольшой запас дров, оставленный прежним хозяином, почти весь иссяк. Наступила осень, скоро будет невозможно обходиться без дров. Нам с Эдди это почему-то не приходило в голову: мы считали само собой разумеющимся, что дрова не кончатся никогда, а если кончатся — кто-нибудь нас ими обеспечит. К счастью, теперь у нас появились две замечательные «спины».
Облаченная в красную клетчатую куртку дровосека, армейские брюки и зеленые резиновые сапоги, Этель чиркнула лезвием топора себе по ногтю, будто не натачивала вчера свою драгоценность целый час, потом высоко подняла его обеими руками, как бейсбольную биту, и ударила по диагонали ствол березы. Пар изо рта, как аура, обволакивал ее рыжеволосую голову. Она вытащила топор, размахнулась и ударила так, что из дерева вылетел большой треугольный кусок. Снова умелый удар, потом еще один — и ствол оказался наполовину разрубленным. Этель зашла с другой стороны и ударила пару раз чуть выше этого места. Дерево медленно наклонилось и упало на землю.
— Где ты этому научилась? — с уважением спросила Эдди.
— Я выросла на ферме в Огайо, — ответила Этель.
— Далеко.
Мона, не уступая Этель в ловкости, обрубала топором ветви. Выглядела она не так эффектно, как Этель, но от коротких резких ударов во все стороны летели щепки, и вскоре бревно стало совершенно ровным.
Дела на нашей ферме Свободы, как мы стали ее называть, пошли в гору. Каждое утро я готовила завтрак и мыла посуду, а Эдди, Этель и Мона запрягали недавно купленных лошадей и ехали на холм заготавливать дрова. Вскоре у нас был уже приличный запас, но мы решили, что придется отапливать еще и сахарный склад, чтобы к концу февраля, когда клены пустят сок, у нас было все готово. Я наводила порядок, пряла и красила шерсть и вышивала радужные занавески на окна. Мне казалось, что я — Белоснежка, а остальные, конечно, гномы.
К тому времени, когда во дворе раздавался цокот копыт, у меня уже был готов обед: соевые оладьи, крокеты или соевый плов. Мы садились вчетвером за скрипучий стол, ели и нахваливали мое кулинарное искусство.
— Очень вкусно, Джинни! — говорила Эдди.
— Вкусно, — вторили ей Мона и Этель.
— И очень полезно, — прибавляла я.
Однажды утром я сидела за вышивкой, как вдруг в дверь постучали. Я испугалась, но приоткрыла дверь и увидела Лаверну. За спиной у нее висел рюкзак, в руках — фланелевая сумка. Она выглядела очень соблазнительно в кокетливом комбинезоне и клетчатой рубашке.
— Привет, Джинни.
— Что тебе нужно? — грубо отозвалась я.
— Я хочу жить с вами.
— Спятила? Тебя что, выгнали твои дружки?
— Я сыта ими по горло!
Я подозрительно посмотрела на нее, но разрешила войти. Она сбросила на пол рюкзак и огляделась. Я преисполнилась гордостью: по сравнению с тем омерзительным местом, откуда она явилась, у нас царили чистота и порядок.
— Я не знаю, Лаверна. Не знаю, можно ли тебе остаться. Послушаем, что скажут остальные.
— Я понимаю. Они не одобряют моих сексуальных наклонностей. — Она привычно облизала нижнюю губу и медленно провела по ней средним пальцем.
— Мягко сказано.
— Но с этим покончено! Я никогда не захочу мужчину.
В эту минуту, запачкав сапогами мой чистый пол, вошли Эдди, Этель и Мона.
— Разувайтесь! — крикнула я точь-в-точь как домохозяйка в дневных сериалах.
Они разулись и молча уставились на Лаверну.
— Так-так, — наконец заговорила Эдди. — Провалиться мне на месте, если это не мужская подстилка. Чем обязаны видеть тебя в нашей целомудренной обители?
Лаверна нервно хихикнула.
— Она хочет жить с нами, — объяснила я.
— Здесь?
— Я никогда в жизни не захочу мужчину!
— Неужели?
— Честное слово! Я сыта ими по горло! Они меня совсем разочаровали. Они — ненасытные животные. Поверьте мне! Мне хватит вибратора!
Мы рассмеялись и сели уплетать мои соевые котлеты.
Настало время пойти в народ. Мы так долго тянули с этим, потому что знали, какого мнения о нас горожане: «Соевые бабы — это коммунистки, лесбиянки и атеистки». Ферма Свободы встала на ноги, небогатый урожай уже находился в пыльном подвале, на подносах или в кувшинах; дрова для плиты и сахарного склада заготовлены, наколоты и сложены. Пришло время спуститься в Старкс-Бог и смешаться с народом, ради которого мы выбрали себе такой тяжкий удел. Пора повернуть их головы и сердца к революции!
Нашим первым актом солидарности было посещение собрания доноров, которое проходило в Халлспорте средней школы. Там я впервые увидела Айру. Не может быть, чтобы я не встречала его раньше, — он был самым активным молодым бизнесменом, президентом добровольного пожарного общества, завсегдатаем дансинга и членом похоронной комиссии. Но запомнила я его именно там — в средней школе.
Мы явились впятером в одинаковых куртках дровосеков, армейских брюках цвета хаки и зеленых резиновых сапогах. Все замерли, когда мы называли свои имена приветливой седовласой даме за столиком. Мы сели рядышком на складные стулья и стали ждать, когда нас вызовет накрахмаленная медсестра. Часть зала занимали деревянные койки на колесиках с пластиковыми сосудами по бокам. Из сосудов торчали трубки, через которые из вен лежащих доноров в них текла кровь. В углу устроили буфет, где оставшиеся в живых болтали и чавкали пончиками. Я узнала владельца фуражного магазина, фермера, живущего вниз по дороге в город, еще пару человек и приободрилась: моя кровь смешается с кровью знакомых. Мы были заодно в благородном деле.
Нас по очереди вызвали к медсестре и уложили на койки отдавать свою кровь на благо общества: она вольется в вены вермонтских фермеров, если их придавит трактор; вермонтских женщин, потерявших кровь при родах; вермонтских детей, упавших с санок на ледяной горке. Мы были очень горды собой. В буфете к нам тоже обращались с глубокомысленным «Вам не холодно?» или «Смотрите, какие снеговые тучи несет с севера». После пончиков и кока-колы мы направились к дверям.
Там, раздавая маленькие красные сердечки, стоял Айра Блисс, страховой агент миссурийской компании и владелец зала демонстрации снегоходов. У него были высокие скулы, полные губы, карие широко поставленные глаза и густые брови, придававшие лицу испуганное выражение. Темные вьющиеся волосы падали на потный лоб. Он походил на усталого пирата, спрыгнувшего с римского корабля. Под тесной красной спортивной курткой угадывались развитые мускулы, а из-под расстегнутых на груди пуговиц торчали черные завитки. Он стоял прямо в двери; ноздри трепетали, как у бегущего коня. Оглядываясь назад, я могу поклясться, мы обменялись страстными взглядами. Но в тот момент я спокойно смотрела, как он прикрепляет к воротнику моей куртки пластмассовое сердечко, как цветок к корсажу возлюбленной.