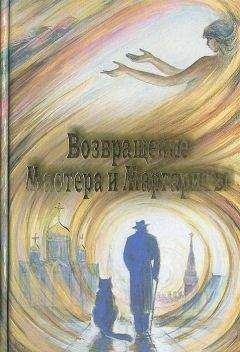- Постой. Давно у меня руки чесались. С того самого дня, как за решение это чертово проголосовал. Спасовал, понял - не устоять мне против твоей шайки. Словно шакалы оскалились, именем Сталина козыряли! Вы ж его, суки, в своих целях используете, - рука Жестова все туже скручивала архитекторское кашне. - А больше всех подзуживал Храм взрывать родственник твой - Лазарь. Да и ты постарался. Ты, "мастер"... - Хотел Жостов что-то добавить, но лишь махнул рукой, круто развернулся и зашагал прочь.
Архитектор повел шеей, расправил шарф, достал большой белый платок и старательно высморкался. Затем опустил веки и заставил себя дышать методически - выдох в два раза длиннее вдоха. Через пару минут он справился с кипевшим негодованием. Светилась окнами громада ЕГО Дома, в котором жили лучшие люди страны, а на листах ватмана уже рождался образ Дворца, увенчанного стометровой позолоченной статуей Ленина. Монумент невиданной мощи, в три раза выше статуи Свободы! Ширина в плечах - тридцать два метра! Объем головы почти в половину Колонного зала. Ильич будет возвышаться над облаками, а весь мир затаит дыхание от восторга и зависти. Никто, никогда, нигде не переплюнет мастера из Одессы, своими руками делающего историю...
- Мороз, Дуня, зверский, - Архитектор погладил жмущуюся к его ногам собаку. - Загулялись мы с тобой. Завтра банкет в Кремле. Товарищ Сталин, возможно, ходом дела интересоваться станет. А я - чихаю! Запомни, псина, никто, даже самый лучший из живущих на земле строителей, не может чихать на товарища Сталина... - Борис Михайлович Иофан уверенно зашагал к своему дому.
В кабинете Жостова горел свет. В кресле у письменного стола полулежала Варя, целясь в настольную лампу блестящей трубкой. По радио транслировали праздничный концерт. Молодой солист Большого театра Сергей Лемешев проникновенно пел "паду ли я стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она..." Взволнованно шуршал программками и покашливал замерший зал.
- Ой, папка! Так тихо подкрался, я и не слышала. Увлеклась по уши! Нет, ну ты посмотри, посмотри сам! - Варя протянула отцу трубку. - Левчик подарок для Мишеньки сделал. Да ему такую штуковину пока в ручках не удержать.
Жостов взял блестящую трубку. Это был калейдоскоп, но не обычный, сделанный на фабрике детских игрушек или в кружке "умелые руки". Вещицу сработал профессионал, знакомый с передовым заводским производством.
- Хорошая работа, - одобрил Жостов без особого энтузиазма. Стычка с архитектором огорчила его. Нервы совсем ни к черту. Кипит что-то внутри, ворочается, как в жерле вулкана, а тут возьми да на Бориса вылейся. А ведь не его - себя шарфом душить надо было, себя клясть. Одна шайка-лейка, всем и ответ держать. Только кто-то знает о возмездии, а кто-то нет. Вот и живут спокойно, Дворцы проектируют. Тому же, кто сам с собой запутался, покоя нет, и не будет, как не крути.
Зачем, спрашивается, человек несгибаемой воли и железных убеждений ходил ночами в Храм к неприятному и неумному вовсе попу? Что ждал от него? Понятно в общем-то. Хотел проникнуться отвращением к служителю культа, укрепить веру в правоту государственной позиции. А что получил? Сомнения и жалость. Лаву эту в груди кипящую, ищущую выхода получил. Злобу и колебания...
- Ты меня не слушаешь, пап, - надулась Варя, хлопнув перед глазами Жостова ароматными розовыми ладошками. - Я говорю: трубку Левке из алюминия сделали, что для аэропланов идет, зеркальца специальные нарезали и внутри под углом склеили. А на донышко знаешь что насыпали? Да ты посмотри, посмотри сначала...
Жостов поднес трубку к глазу и словно нырнул в пестрый ярмарочный балаган, в детскую лоскутную яркость. Радужным светом залит манеж и выкатят на него вот-вот прямо из давних дней балерины в розовых пачках на смешных одноколесных велосипедах, выбегут рыжие клоуны, тяжело затопают, мотая хоботами, слоны...
Он слегка повернул трубку. Сместились цветные стеклышки, погрузив зеркальный дворец в прохладную синеву. В самый раз вспомнить Жюль-Верна. То ли небесная синева среди горных вершин, то ли океанские глубины, из которых вынырнет загадочный "Наутилус". А потом замелькали радужные миры, так точно, так хитро расчерченные цветными узорами...
- Я мальчишкой над этим прибором долго голову ломал, все думал, почему никогда ни один узор не повторяется. Может с той поры инженерией и увлекся. Теперь и вовсе не понятно. Ведь здесь внутри все картинки, как мгновения нашей жизни: сейчас одно, а едва изменишь угол зрения - все меняется. - Он отдал калейдоскоп дочери. - Хорошая вещица, Михаилу очень полезная.
- Похожа на дверь в другой мир. Приложишь к глазу - и заходи! Знаешь, пап, даже вроде музыка слышится и мысли всякие необычные приходят. Сегодня, конечно, все о Новом годе, о праздниках. Может, потому что стекляшки особые?
- Тяжелые.
- Тяжелые, но отличного качества, по специальным рецептам вареные. Левушка сказал. Как Храм разрушили, он там целую коробку насобирал. И еще приятелям своим роздал.
- Вот оно как. Значит, стекла, что в витражах были, тут прячутся...
- Да не волнуйся, там собирать не запрещают. Рабочие завалы разбирают, что на свалку, что куда. И мальчишки ватагами пасутся. Все равно - мусор.
- Мусор, - Жостов тяжело опустился на диван.
- Устал? Мама легла, Клавдия ванну принимает, Мишенька давно спит, а супруг мой, естественно, на трудовой вахте. Видать, в большие начальники выбивается. - Сидя на отвале дивана, Варя покачивала ножкой и любовалась новеньким тапочком из синего атласа с мохнатым помпоном. Взглянув на отца недовольно нахмурилась:
- Вид у тебя усталый. Не скажешь, что едва из санатория. Может, чаю попьем, а?
- Я лучше тут посижу. Хорошо, тихо... И шторы ты, дочка, кстати повесила. Заслонился от всего и сидишь тут как в башне.
- Я в твоем кабинете в последнюю очередь похозяйничала. Отважилась: а вдруг приглянутся? Ничего, что бархатные? - Варины руки обвили шею отца.
- А что? Суконные что ли надо или марлевые?
- Не знаю. Владимир Маяковский против. Он вообще против быта. Против уюта всякого и мещанской привязанности к жилью. Мы с этим бархатом, да с мраморным Бетховеном вроде клопов, засевших в щелях.
- Глупости говорил ваш "горлан". Это - раз. Да и нет его больше - это два. Многих нет и много, чего нет. Это - три... Если задуматься хорошенько, может тут собака и зарыта.
- Ой, не выношу твои мрачности! - чмокнув отца в щеку, Варя выпорхнула в коридор, оставив весенний аромат жасмина и пульсирующие нарывом сомнения.
Николай Игнатьевич приставил к глазу трубку, повернул. Тихо зашуршали внутри цветные стекляшки. По радио звучали ликующие голоса: "Предновогодний рапорт продолжают работники искусства. Говорит председатель МОССОЛИТа товарищ Берлиоз:
- Все мы помним слова великого Сталина, о том, что надо уметь распознать и победить врага. Благодаря бдительности наших коммунистических писателей Союзу литераторов удалось выявить в своих рядах около двух десятков врагов народа и их подголосков..."
Засопев, Жостов выключил радио, отложил калейдоскоп, достал из потайного шкафчика бутылку, быстро опорожнил полстакана коньяка и закурил папиросу.
- Что, дрожат у бывшего комиссара поджилки? - раздался рядом ехидный голос. - Мало ты врагов народа своей рукой в расход пустил? А теперь расквасился, дал себя скрутить вражеской пропаганде.
- Да пошел ты!... - сквозь зубы прошипел Жостов. Он догадался еще летом, что страдает раздвоением личности. Но к врачам обращаться не торопился - уж больно опасные разговоры затевал его навязчивый собеседник. Мало того, появились и зрительные галлюцинации. Частенько Жостову виделся в сумеречных раздумьях мерзейший бес со свиной наглой харей. Он нашептывал пакости, чесался и даже похрюкивал, словно боров.
Обострилось заболевание тринадцатого июля, когда на заседании Совнаркома Жостов проголосовал за снос Храма. Возникло это решение спонтанно, для самого Николая Игнатьевича неожиданно. Еще утром в результате мучительной борьбы с самим собой Жостов сделал твердые выводы разрушению Храма противостоять. С таким настроем на заседание и явился. И вот стали выступать ответственные товарищи, приводить весомые аргументы. Было сказано, что место под строительство Дворца Советов определил сам товарищ Сталин после обстоятельной беседы со специалистами. А когда присутствующие начали подниматься руки и ведущий собрание вопросительно уставился на сидевшего с непроницаемой миной Жостова, кто-то шепнул ему проникновенно и веско: "Товарищ Сталин так решил! Товарищ Сталин никогда не ошибается. Если начнешь сомневаться в этом - ты враг. А все, что до этого делал - ошибка". Гаденький, гаденький был голос! Рука Жостова поднялась словно против его воли, и тут же стало тяжело и мерзко в груди. Тошно, больно, словно втиснулся прямо под ребра когтистый чертяка. Сунув под язык валидол и хватая ртом воздух, Николай Игнатьевич вышел из зала.