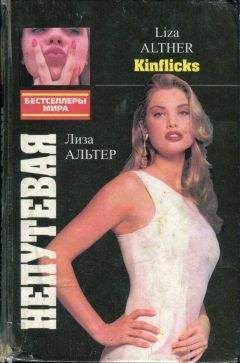Джинни с удивлением смотрела на эту сварливую, зациклившуюся на ее внешнем виде женщину.
— Ты сегодня плохо выглядишь, — сказала она, не отрывая глаз от огромного синяка. По правде сказать, Джинни было обидно за мать.
— Еще бы! Извини, но я не могу так просто взять и умереть, чтобы избавить тебя от нотаций.
— Мама! Ради Бога!
— Джинни, я попросила бы избавить меня от твоих замечаний. — Миссис Бэбкок сама испугалась своего эгоизма. Когда она была ребенком, считалось само собой разумеющимся, что дети во всем уступают родителям, ждут их, помогают по дому: но когда стала матерью и была вправе рассчитывать, что пришла ее очередь, мода переменилась, и от родителей снова требовалось уступать. Все перепугалось… Но самое интересное: с тех пор, как приехала Джинни и миссис Бэбкок смогла дать выход своему раздражению, исчезла ее депрессия. Раньше, если дети огорчали ее, она обвиняла себя: не сумела их воспитать. Она все глубже погружалась в черную мглу самобичевания, пила таблетки доктора Тайлера и валялась дома, остро чувствуя свою никчемность. А теперь, когда повод действительно появился, депрессия исчезла.
— Расскажи о себе, дорогая, — стараясь быть вежливой, сказала она. — Что ты делала этот год?
Джинни скривилась.
— Я видела Клема Клойда.
— Пожалуйста, не говори мне о нем. Этот тип чуть не убил тебя.
— Он изменился.
— Волчонок всегда останется волчонком, даже если живет среди людей.
— Он правда изменился, мама. Он теперь семейный человек. У него жена, трое детей.
— Ну и что? У Аттилы тоже были дети.
— Клем стал очень ответственным, мама. Ему больше не нужны смертельные трюки. Папа говорил, что он — отличный фермер.
— Да, говорил.
— Ты знаешь, что он проповедует?
— Мы говорим об одном и том же Клеме Клойде?
— Я сказала, он очень изменился.
— Поверю, когда сама увижу. Чего никогда не будет.
— Ладно. Он много расспрашивал о тебе. Очень беспокоится.
— Что слышно от Айры?
— Немного. Он очень занят в это время года — продает велосипеды. (Неужели невозможно признаться собственной матери, что Айра выгнал ее и что она совсем ничего не знает ни о нем, ни о Венди? Она позвонила им вечером, но никто не ответил. Ей очень хотелось спросить у матери, что делать. В конце концов, зачем человеку мать? Но она заранее слышит ее ответы: «Секс вне брака — вульгарен», «Детям нужна мать», «Ты должна исполнять свой долг». Но скорей всего, мать оборвет ее исповедь на первой же минуте.)
Они сидели молча. Джинни пыталась решить, стоит ли говорить о кровоизлиянии в мозг? Предупредить ли мать об опасности мгновенной смерти? Готова ли она? Если нет, как подготовить? Нет, это ужасно — знать, что в любую минуту твой мозг затопят гейзеры крови.
Две женщины обменивались натянутыми улыбками. Молчание затянулось, но разве они не молчали и раньше годами?
— По-моему, нужно позвонить Карлу и Джиму, — как бы невзначай сказала Джинни.
— Зачем?
— Пусть знают, что ты в больнице.
— Не вижу необходимости. Я ведь не умираю. По-моему, я и тебе раньше не сообщала.
— Да, не сообщала. Но я предпочла бы знать. Почему ты должна всегда страдать в одиночестве?
— А какой смысл в том, чтобы кого-то расстраивать? Ты бы только испугала меня, Вирджиния Бэбкок Блисс. Так что, пожалуйста, не звони им. Я сама напишу в следующем письме.
— Обещаешь?
— Да. Но, честно говоря, я не понимаю, почему это тебя так волнует.
— Только потому, что ты всегда слишком скрытна.
— Я? Мата Хари называет меня скрытной?
— Ладно, будь по-твоему. Но ведь мы — семья и должны быть во всем заодно. Согласна?
Слово «заодно» насторожило миссис Бэбкок. Этот штамп сплошь и рядом звучал в телевизионных ток-шоу.
— Действительно, мы не «заодно», — ответила она. — Но согласись: это одна из немногих оставшихся мне радостей.
Джинни фыркнула: мать бывает забавной.
— Ну, ну, продолжай, мама. Обрати все в шутку.
— Согласись, дорогая, — снисходительно кивнула миссис Бэбкок, — что заодно нужно быть в особо сложных обстоятельствах. И хватит об этом.
— Ну что ж, — вздохнула Джинни. Кровоизлияние в мозг, ее разбитая семейная жизнь… Наверно, это не настолько сложные обстоятельства.
— Пойду поищу Фогеля, — встала она. — Хочу спросить о сегодняшнем переливании.
На самом деле ей нужно расспросить его о желудочном кровотечении матери. Она вошла в лифт, чтобы спуститься в лабораторию, и увидела в углу маленькую лужицу запекшейся крови. Лифт остановился, но Джинни не тронулась с места. Ее мутило, но вид крови словно пригвоздил к себе. Чья это кровь? Здоровая или больная? Какое у нее время свертывания? Сколько тромбоцитов? Какая группа? Под пристальным взглядом лужица, казалось, ожила и запульсировала. Такая же кровь, как у всех, выполняющая те же функции, — и все же другая. Нет одинаковых снежинок или отпечатков пальцев, и кровь у каждого — своя, особенная.
— Мисс? — нетерпеливо спросил кто-то в белоснежном халате.
— Простите.
В безликой лаборатории, выкрашенной в зеленый цвет, никого не было. Джинни толкнула какую-то дверь и увидела за микроскопом доктора Фогеля. Рядом стояла центрифуга и подставка с пробирками. Время от времени доктор делал торопливые записи на желтом бланке.
— Доктор Фогель?
Он поднял голову.
— Извините, мисс Бэбкок. Я очень занят. Передайте все, что хотели сказать, моему секретарю.
— Его нет. Скажите, помогло ли переливание?
— Трудно сказать. Результат такой, как мы ожидали: уменьшилась анемия, приостановилось кровотечение. Но тромбоцитов всего двадцать пять тысяч в кубическом миллиметре.
— А норма?
— Хотя бы сто тысяч.
— Можно, я посмотрю?
— Ну, не знаю… Это запрещено, мисс Бэбкок. И ваше присутствие здесь…
Она заглянула в микроскоп: на разделенной на квадраты сетке маленькие прозрачные тельца. Тромбоциты мамы? Или ее собственные?
Доктор внимательно изучал на свет какую-то пробирку, сравнивая с другой.
— Что вы делаете?
— Проверяем кровь вашей мамы на антитела, чтобы знать, как повлияло переливание на иммунную систему. Нужно назначить новое лекарство.
— От чего?
Он удивленно посмотрел на нее.
— От депрессии, конечно.
Конечно? Она вздрогнула. О депрессии говорил доктор Тайлер. Теперь Фогель. Что может так угнетать ее мать? Смерть мистера Зеда? Смерть майора? Или разочарование в детях? Она почувствовала себя виноватой. Чего бы ни ожидала от своих детей мать, она этого не получила. Иначе не говорила бы так о Карле и Джиме — снисходительно и вздыхая. И о Джинни она говорила бы с ними точно так же. Наверное, мать права: только в очень сложных обстоятельствах ее дети могли быть с ней заодно.
— Ну, вы убедились, что все под контролем?
— Хотелось бы верить… Но все-таки, доктор, насколько опасно она больна?
Он покраснел и отвел глаза.
— Мисс Бэбкок, вы спрашиваете так, словно я должен дать ответ по десятибалльной шкале. Не могу. Меня учили спасать человеческие жизни. Я делаю все, что могу. — Он склонился над своим микроскопом. Джинни снова не получила ответа.
В лоджии спорили мистер Соломон и сестра Тереза. Джинни тихонько села в уголке и стала смотреть, как обедает мать.
— …Видите ли, сестра, в человеке нет ничего, что заслуживало бы продолжения после смерти. Неужели вы хотите загробной жизни? Это бессмысленно. Мы — испорченные существа, недостойные жить.
— Мистер Соломон, — теребя медальон, терпеливо сказала сестра Тереза. — Не понимаю, как вы до сих пор живы. Вы не понимаете, что Господь уважает нас и поддерживает, несмотря на всю суету и бренность. Неужели вы сердцем не чувствуете эту поддержку? Когда вы видите солнечный свет, заливающий луга и предгорья, неужели не чувствуете здесь, — она прижала руку к своей впалой груди, — что хотите вы того или нет, но Бог — на своем небе, и в мире все в порядке? Поверьте мне, мистер Соломон. Он есть.
— Нет, сестра, — он похлопал себя по груди. — Я не чувствую этого. По-моему…
— Прекратите! — Тарелка с молочным супом полетела на пол. — Вы можете оба заткнуться? Тарахтите, тарахтите об одном и том же. Вы даже не слышите друг друга! — Миссис Бэбкок встала и с шумом отодвинула стул. — Единственная, у кого здесь есть здравый смысл, — миссис Кейбл.
Джинни подскочила, взяла мать за руку и вывела в коридор, предоставив другим убирать разлитый суп и осколки тарелки.
— Мама…
— Ни слова! Ни слова больше!
Что-то произошло. Коридор вытянулся в несколько миль. Она шаркала, опираясь на руку Джинни, и не понимала, куда и зачем идет. Ей было все равно.
Она легла на кровать и задремала. Странное ощущение. Не усталость, не депрессия — с ними она хорошо знакома. По сравнению с этим новым состоянием депрессия казалась самой энергией. Из нее словно ушли все силы. Мозг окоченел. Единственной эмоцией, если это можно назвать эмоцией, было полнейшее равнодушие. Это смерть? Она приподняла безжизненную руку: темно-красные, черные, зеленые кровоподтеки. Эта комичная рука — ее? Ради Бога, что за суета вокруг?