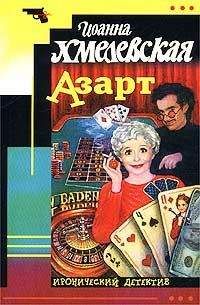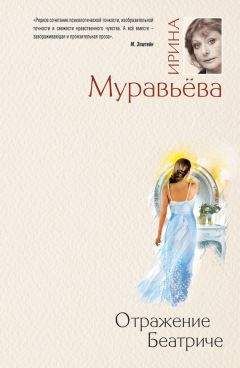— О, Марк…
Он знает значение слов. Встает хрустальная стена. Поднимается сказочный мир.
Они идут наверх. Их тени сгибаются, сплетаются, бегут по стенам, пляшут на плафоне, Из темноты сверкает позолота рам. Белеют пятна лиц. Старые портреты провожают их глазами с тонкой, печальной усмешкой тех, кто все пережил, кому все понятно.
«Не сердитесь! — думает Маня. — Я знаю, мы не должны смеяться здесь, где вы умирали. Но мы будем говорить шепотом и двигаться, как тени… Мы не потревожим ваш покой…»
В бельэтаже, в зале, озаренном старинной люстрой с восковыми свечами, все накрыто к ужину.
— Вот твоя комната, Маня, — говорит Штейнбах. И отворяет дверь на балкон.
Ветер вздувает тяжелый шелковый занавес.
Они молча смотрят на канал. Огни в отелях гаснут. Поездов больше не будет до утра. Только у входа горит электричество, и сверкающая рябь бежит по воде.
Вдали темным пятном встает дворец Дездемоны. Быть может, она никогда не жила здесь? Быть может, она жила только в душе поэта? Но зачем нужна правда? Только то прекрасно, что никогда не жило.
Какое наслаждение плыть вдвоем мимо этих дворцов, величаво дремлющих, как бы в заколдованном сне! На стенах ветер и дожди смыли дивные фрески Сансовино, Тициана и Джорджоне. Сырость начертала на них свои причудливые узоры. И они стали перламутровыми. Время коснулось их своей рукой. И они стали загадочными и прекрасными. Так прекрасно только отжившее. Глаз не может насытиться этими неуловимыми оттенками мрамора.
— Взгляни направо, на этот ряд. Все это здания пятнадцатого столетия. Здесь жили дожи, патриции, великие художники — Тьеполо и Тициан… вон там, где терраса…
— А теперь здесь отели, набитые англичанами! Марк, ты понимаешь, что можно возненавидеть людей?
Дворец, величественный и печальный, на повороте развертывает перед ними свой мрачный фасад. На стенах сохранились гербы Фоскари [71].
— А вот это дворец дожа Мочениго… Здесь жил Байрон.
— С маркизой Гвиччиоли?
— Да. После разрыва с женой.
Маня вдумчиво глядит на стены с исчезающими Фресками, бледными, как сны. Вспоминается гордое лицо поэта. Как мог он, избранный из тысяч, тосковать о своей ничтожной Какую власть над людьми имеют символы!
— Покажи мне дом, где умер Вагнер!
— Это дальше. А вот взгляни сюда. По преданию это был дворец Отелло…
— Ты, кажется, не веришь? — строго спрашивает Маня и пристально смотрит в его лицо.
Он опускает глаза, пораженный ее чуткостью.
— Как можно! Ни тени сомнений…
Лодка скользит из одного узенького канала в другой. Вдруг Маня видит высоко вверху, между двумя старыми дворцами, висячий мост. Он весь ажурный. Он недоступен.
Кто, кроме влюбленного, мог построить его? Только жажда быть вместе и невозможность осуществить желание перекинули над темной водой воздушный переход. Как символ слияния двух душ, разлученных жизнью. Деревья выросли на стене, вскарабкались наверх и завладели угрюмым мшистым камнем. Под мостом — балкон. Плющ обвил его колонны и пополз вверх, до каменных фестонов крыши, откуда упал пышной вуалью.
— Это дворец Альбридзи, — говорит Штейнбах.
Они плывут дальше. Но Маня долго затуманенными очами глядит вверх, на ажурный мост, увитый плющом, на суровые камни с гербами. Они шепчут что-то. И она их слышит. Хрустальная стена растет.
Гондола выплывает опять на Большой канал.
— Хочешь видеть сказку в камне из «Тысячи одной ночи»?.. — встрепенувшись, спрашивает Штейнбах.
— О Марк, неужели есть что-нибудь лучше дворца Альбридзи?
— Плывите к Ca d'Oro[72]! — говорит Штейнбах гондольеру.
Солнце садится, когда через час почти они возвращаются с. другого конца Венеции. Там уже нет дворцов, а начинаются фабрики. В воздухе заметно свежеет. Они едут в глубоком молчании. Хрустальная стена отрезала их от мира. Как туман, поднимается она над лагунами. И в нем тает прошлое. Без следа. Фрау Кеслер встречает их на лестнице.
— Куда вы пропали? Маня, у тебя руки, как лед! Она отвечает трепетным голосом.
— Мы видели сейчас закат. Я никогда не забуду этого дня, фрау Кеслер! Обнимите меня, дорогая. Я так счастлива! Жизнь так хороша!
— Хотите слышать музыку? — вечером спрашивает Штейнбах.
— О да! — отвечает фрау Кеслер. Маня молчит.
— Это слишком оригинальный концерт, — говорит он. — Вместо паркета плиты древней мостовой. Открытое небо вместо плафона. Аркады дворцов заменяют стены салона. Пойдем! Нигде в мире потом ты не встретишь ничего подобного.
На площади Св. Марка толпа окружила военный оркестр. Огромные канделябры дают так много света, что ночи не чувствуешь. Итальянцы слушают молча, сосредоточенно. Особенно простолюдины. С негодованием оглядываются они на туристов, которые ходят стадами, шаркая по скользкой мостовой, и громко смеются. Все столики заняты. Пьют кофе и сиропы.
Рядом с Маней стоит группа фабричных работниц. Какие они высокие, сильные, стройные! Жаль, что огромные шали скрывают их фигуры! Ни платочков, ни шляп, ни кружев. Одни модные прически. Волосы У них пышные, густые. И у многих рыжие. Нигде, кроме Венеции, не встретишь такого оттенка.
Вдруг Маня перехватывает взгляд Штейнбаха, он разглядывает стоящую рядом рыжеволосую женщину. У нее ослепительная кожа. И она красива. Но почему он так странно смотрит? Лицо у него стало острое и хищное, как у сокола. Сердце Мани сжимается. Как больно! Даже нечем дышать.
Итальянка оглядывается и краснеет.
Они знакомы?
Он поднимает шляпу и говорит ей что-то. Ее ресницы опустились. Она смеется, показывая белые, крепкие зубы.
— Как она хороша! — шепчет фрау Кеслер.
Лицо итальянки сияет счастьем. Она что-то быстро говорит Штейнбаху, озираясь, грозя пальцем и подбородком указывая кого-то в толпе. Штейнбах щурится в ту сторону. Пожимает плечом. Что-то настойчиво переспрашивает.
Она отвечает, растерявшаяся. Потом, обменявшись с ним быстрым, ярким взглядом, она кивает ему головой и вмешивается в толпу.
«Они встретятся, — думает Маня. — Он ее любит. Он жил здесь до встречи со мною. Это его прошлое, которого я не знала».
Штейнбах еще мгновение острым взглядом ищет в толпе рыжую женщину. Потом обращается к Мане. И в его голосе она сквозь усиленную нежность с ужасом впервые чувствует что-то фальшивое.
Точно стена поднялась между ними. И она не видит уже его лица. И у нее такое впечатление, что под ногами открылась яма. И вот-вот она рухнет в нее.
— Не устала ли ты? Хочешь сесть? Она молча качает головой.
Фрау Кеслер чует «роман»… И улыбается. Это хорошо. Зачем бесплодные страдания? Аскетизм? Жертвы? Все, что лишает жизнь красок, а душу радости? Он слишком много выстрадал во всей этой печальной истории с Маней, чтоб не иметь права «встряхнуться».
— Может быть, ты возьмешь мою руку? — спрашивает он, на этот раз с глубокой нежностью. Он видит муку в ее лице, в закрытых веках, в сжатых бровях, в побледневших устах. Забыта женщина-каприз, разбудившая память нервов. Вот эту — недоступную и больную — он любит беззаветно. И страдание в лице ее, причину которого он не знает, пугает его. И потихоньку гасит чувственный порыв к другой.
Но она этому не верит. Она не научилась еще великому искусству — отличать любовь от желания. Она глубоко несчастна. Она враждебно отворачивается.
— У вас хороший вкус, Марк Александрович, — смеется фрау Кеслер.
Лицо его вдруг становится холодным.
— Да. Она красива. Она позировала моему другу-художнику два года назад. И эта картина имела успех. Теперь она замужем.
«Для кого он это говорит? Зачем он лжет?…» Вдруг рядом с ними, на руках одной работницы, кричит проснувшийся младенец.
— Куда ты, Маня?
Но она машет рукой и бежит.
О, одиночество! Лунный свет. Тишина.
Слезы хлынули из ее глаз… Лучшие иллюзии умирают сейчас в ее сердце. Самая светлая вера. Пусть ее Душу втоптал в грязь тот, другой! Она все-таки знала ей цену. Она верила, что ее — больную, зачтенную, увядшую — любит этот, что он ждет ее пробуждения терпеливо и самоотверженно, что глаза его закрыты для искушений, а душа недоступна соблазну. Она мечтала наградить его потом. О, эта любовь его! Ее гордость, ее сокровище. Какой богачом считала она себя ещё вчера! И жалкой нищей стоит она сейчас.
И что утолит теперь голод ее души? Что?
— Маня. Прости… Я помешал тебе?
«Лишь бы не заметил слез. Молчать и таиться. Быть гордой. Быть сильной. И одинокой. Помоги мне, Господи!»
— Не хочешь ли прокатиться? Дальше? К взморью?
— Да… да… Мне невыносима эта музыка, эта толпа. Видишь серебряный мост в воде?
— Но ты легко одета. Простудишься.
— Ах, все равно! Поедем скорее.
Наконец одни! Сюда не достигают звуки. Над ними немое небо. Под ними немые волны. Вдали огни Венеции. Далекие, прощальные. Они плывут мимо острова. Призрачные очертания церкви, похожей на греческий храм, белеют в серебряном тумане.