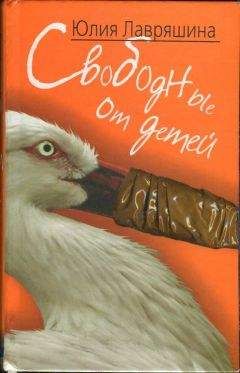Моя Рони, конечно, тоже не подарок, не говоря уж о другой, более знаменитой героине Линдгрен, но в сравнении с этими неуправляемыми животными, заполнившими зал, и Пеппи показалась бы даром судьбы.
Стараюсь не смотреть налево, где усадили школьников, и кляну ту мудрую голову, которая додумалась испоганить просмотр присутствием таких зрителей. Я ведь специально решила не ходить на премьеру, чтобы с ними не встречаться. Но, как видно, от судьбы не уйдешь…
Краем глаза вдруг замечаю какое-то несоответствие: звенышко выпало из общей цепи. Это маленькая девочка с остреньким, похожим на крошечный клювик носом и рыжеватым пушком волос, склонив голову на подставленную ладошку, сидит возле прохода, не обращая внимания на гвалт вокруг, но ее отрешенность выдает не скуку, а предвкушение. Она уже погружается в атмосферу, которой еще нет, сама себе выдумывает ее и наслаждается ею. Тихая фантазерка, какой была когда-то я сама.
Мне хочется увидеть ее глаза, хоть на миг соприкоснуться взглядами, проникнуть в то, чего не замечают не то что эти шимпанзе вокруг, но, боюсь, даже ее родители. Как не замечали мои ничего выделявшего меня из общей массы. Тем более из троих собственных детей. Ребенок как ребенок. Хорошо училась, и слава богу!
Я смотрю на непохожую на других девочку, которая опустила руку, открыв мне нежный полуовал лица, светлого, как лунное пятнышко, и жду, что она заметит мой взгляд, но ее утянуло уже слишком глубоко. Мне-то известно, что оттуда нелегко выскочить пробкой. Даже постепенно всплыть и то не сразу получается: пробиваешься сквозь гущу собственного воображения с дикими, плоскими (как потом представляется) глазами, в которых нет мысли — все отданы ноутбуку, застыли черными иероглифами, в этот момент нечитаемыми. Поэтому телефон отключаю, когда работаю, но иногда кого-нибудь вроде Власа черт все же приносит.
Хотя его вроде бы уже удалось отучить от внезапных сюрпризов. Однажды ворвался без звонка, и попал в анекдотическую ситуацию: он, еще он и она. До сих пор не здороваются, хотя служат в одном театре… Влас — неглупый парень, наверное, догадался, что дверь я не просто забыла запереть, все действие маленького фарса было построено заранее, на то я и драматург. И несколько вариантов — почему? Наверняка он мысленно каждый из них проиграл во всех деталях.
…На сцене появляются актеры, теперь мне уже точно не привлечь внимания девочки. Вот во все горло поет, рожая, Лувис — так оно вроде и легче, да и младенец веселым родится. У Аллочки, которая играет юную мать Рони, своих детей нет, хотя уже тридцатник и замужем. Ее муж, художник Боря Синицын, сделавший декорации, сидит позади меня, и я шепчу, переклонившись:
— А когда твоя Аллочка взаправду так запоет?
— Да бог с тобой! — пугается он. — Зачем нам это счастье?
— Она не хочет детей?
— Она-то как раз хочет! Дурочка… Но а мне-то зачем, чтоб у нее грудь обвисла, как уши спаниеля? Растяжки по всему пузу будут, вены повылезут. Красавица станет еще та…
Теперь я пытаюсь поймать его взгляд:
— Борь, а ты вообще любишь ее?
Хмыкнув, Борис указывает подбородком на сцену:
— А ты посмотри на нее… Ну, без этого накладного пуза, конечно. Как можно не любить такое тело?
Больше мне не о чем его спрашивать, он все сказал. И вдруг до слез становится жаль Аллочку, которая до этой минуты никаких добрых чувств во мне не вызывала. За ее спиной уже маячат тени проклятых красотой женщин — и литературных, и живых. Природа не жалеет себя, делится с ними ивовой гибкостью и росяной свежестью, цветочным духом приоткрытых губ, стремительностью птичьего полета в движениях и жемчужным перламутром колен. А потом отбирает все это, не щадя, не торгуясь, ни крохи не оставляет, и женщины предстают свету, будто с ошпаренной кожей — ведь совсем не таким отражение было вчера! Пока длилась ночь любви, в зеркало заглянуть было некогда, а рассвет, неизбежный, холодный, насмешливо розовеющий юностью, высветил уже другое тело, незнакомое, путающее. Кто подменил его, пока была ослеплена любовью?!
Я рассматриваю актрис — и тех, кто занят в спектакле, и тех, что сидят в зале. Странно, что пришли посмотреть… Обычно, когда для актера в пьесе нет роли, он выступает против постановки с пеной у рта. Режиссер не хочет ее ставить, если нет работы для его жены. И прочее, прочее… Вокруг меня красивые, длинноногие женщины, к сообществу коих я, маленькая, с неправильными чертами лица, никогда не принадлежала. Или нет никакого тайного ордена, только известный по анекдотам серпентарий? Потому и держусь особняком, не хочу быть искусанной ядовитыми гадами.
Элька — единственная, кого я подпускаю близко. Не потому, что она некрасива… Она тоже никогда не прикидывается. Не стремится показаться глубже и умнее, чем есть на самом деле. Знает, что пустышка с пятисантиметровыми ногтями и прооперированной грудью (еще в детстве все задатки были такой стать, даже читать ее не приучила — не далась!), но не считает нужным это скрывать. По крайней мере от меня.
Здесь другое дело — царство лицедейства. И Влас Малыгин меня раз за разом очаровывает тем, что живет, играя, чего мне не дано. И не хочу. Его воздух пропитан фальшью, волшебной пылью кулис, но кто сказал, что он хуже горного кислорода? Многие артисты живут долго, думаю, потому, что не в силах прервать этой чудной игры, называемой жизнью. Для них ее ипостаси — и выдуманная, и реальная — сплелись настолько, что получился канат покрепче корабельного и держит наплаву. Сама тем же надеюсь удержаться, ведь в моем случае все глубже: я не просто играю в двух реальностях, я в них живу.
Подумав о долгожительстве актеров, перемещаюсь вправо — поближе к старой актрисе Славской, которую называют живой легендой этого театра. В кино Зинаида Александровна почти не снималась, ее имя ни о чем не говорит тем, кто живет за МКАД. Но внутри этого храма о ней говорят с трепетом — десятилетиями главные роли, все лучшие женские образы, какие только можно припомнить, Славская переиграла. Сейчас, конечно, больше матери да комические старухи, но Зинаида Александровна ничем не брезгует, куда ей без воздуха сцены? Сама говорит: «Меня вынесут из театра только вперед ногами». Один раз даже место на сцене мне показала, где будет стоять ее гроб, который ей уже видится. Но когда наблюдаешь, как она, восьмидесятилетняя, бежит в театр на каблучках, в неизменной кокетливой шляпке и какой-нибудь пелерине, которых у нее с десяток, не верится, что такой источник жизни когда-либо может иссякнуть.
Славская смотрит на сцену, как та девочка слева — глазами поглощает и отдает актерам внутреннюю энергию. Никакой разрушительной старческой ревности к молодым артистам, никакого даже внутреннего брюзжания. Седые волосы волнами по моде двадцатых годов, подчеркнуто прямая спина и сияющий взгляд. Обожаю эту женщину!
— Осанка — это характер, — говорит она. — Так меня еще моя бабушка учила. А она была выпускницей Смольного…
Директор театра, представляя труппу где-нибудь на гастролях, обязательно подчеркивает их интеллигентность и особо упоминает, что среди актрис есть дворянка по происхождению. Больше это тешит, конечно, его самолюбие, но, думаю, Зинаиде Александровне тоже приятно. Хотя, когда она впервые вышла на сцену, вряд ли ей хотелось, чтобы ее корни показались из-под слоя семейной тайны.
Рискуя оторвать Славскую от поглощения действа, когда на сцене разбойники, среди которых и весь нараспашку Малыгин, начинают песней славить рождение будущей атаманши Рони, шепчу:
— Зинаида Александровна, а почему вы не снимались в кино? Не поверю, что не приглашали!
Удивления не выказывает, хотя, бывает, так посмотрит, чуть откинувшись назад, что мгновенно понимаешь всю нелепость вопроса. Но этот, даже не зная истока моего интереса, вызванного назойливым интервьюером, Зинаида Александровна воспринимает как должное.
— Приглашали, — она делает бровями движение: «Еще бы не пригласили!». — Но ты же знаешь, у меня трое детей, я не могла пропадать на съемках.
На душе становится спокойней: Славская, сама того не подозревая, подтверждает мою гипотезу о несовместимости полной реализации таланта с материнством.
— Неужели вы не могли взять няню?
Они с покойным мужем оба рано стали «народными», безденежья не знали.
— И оставить моих малышей с чужой теткой?! Да бог с тобой! Я с ума сошла бы от ревности… А вдруг они привязались бы к ней больше, чем ко мне? Да что ты! Страх-то какой… Если собираешься спихнуть своих детей мамкам-нянькам, лучше их и вовсе не рожать.
— Вот и я о том же…
— Да, тебе этого не стоит делать.
Я чувствую себя уязвленной: человек, которого ценю настолько, что не могу просто послать подальше, в глаза называет меня неполноценной. И хотя сама себе говорила то же самое тысячу раз, когда это произносит другой, звучит совсем иначе.