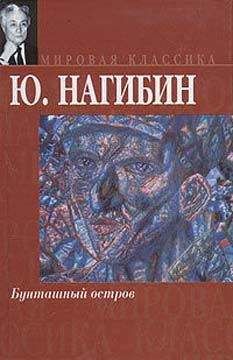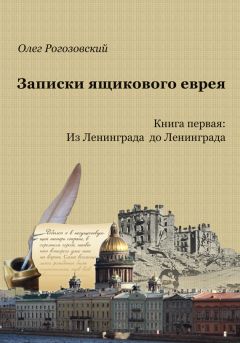Она не понимала его внезапного срыва. Что это — лермонтовское: «Ты мертвецу святыней слова обручена»? Да ведь это нежизненно, так не бывает и не должно быть, живой думает по-живому. Она не собиралась оправдываться перед Пашей. Она пошла на фронт сандружинницей вовсе не в надежде его найти, такое бывает лишь в плохих фильмах, а потому, что хотела быть, где убивают. Ее не убили, даже не ранили, она вернулась в свой город, чтобы жить и ждать. Она и ждала, пока не пришел Скворцов и не отнял последнюю надежду. Была работа, был любящий пострадавший человек, Пашин друг, свидетель их короткого счастья, она не могла его полюбить, но уважала его чувство, его стойкость, и еще ей казалось: у нее может быть сын, похожий на Пашу. У многих людей для того, чтобы жить, еще меньше оснований. Но что случилось с Пашей? Отчего он взорвался, когда она сказала, что Скворцов ее муж? Странно… Скворцов был его другом с раннего детства, они десять лет просидели за одной партой, поступили в один институт, полюбили одну девушку. Скворцов полюбил раньше, но ему на роду было написано во всем уступать Пашке. Со стороны это казалось естественным: Скворцов был интересным молодым человеком, а Пашка — явлением, праздником, Божьим подарком. Так его все и воспринимали. Поначалу ее отпугнула победительность курортного баловня. Бывают такие люди — для летнего отдыха. Во все играют, плавают «за горизонт», всегда в отличном настроении и загорают быстро, дочерна, без волдырей, и все дается их рукам: костер, шампуры с жирными кусками баранины, трухлявые пробки бутылок, гитарные струны. А в городе эти люди большей частью линяют, гаснут: пляжный Аполлон оказывается непреуспевающим служащим, студентом-тупицей, просто лоботрясом. Вместо прекрасного наряда смуглой наготы — жалкий ленторговский костюмишко, и куда девалась вся отвага, ловкость, покоряющая свобода слов и жестов? И все же она влюбилась и Пашку уже там, на берегу моря, когда он и внимания на нее не обращал, упоенный своими первыми взрослыми романами. А в Ленинграде она была согласна и на тупицу, и лоботряса, на последнюю шпану — любила без памяти. Но Пашка и в городе остался богом. Она вполне допускала, что Скворцов не слишком страдал, может, и вообще не страдал, находясь в тени, далеко не все люди стремятся в лидеры. И Пашка не стремился, но становился им неизбежно в любой компании, в любом обществе, в институте, на стадионе и смирился со своим избранничеством, с тем, что ему всегда оказывают предпочтение. Быть может, он заплатил за это известной эмоциональной слепотой. Так он был ошарашен, узнав от Ани, что оказался счастливым соперником своего друга. Скрытность Скворцова привела его в ярость. «Домолчался, идиот несчастный!» — «А если б ты знал?» — «Обходил бы тебя, как Кара-Даг», — честно сказал Паша. «За чем же дело стало?» — хотела она обидеться. «Поздно. Люблю». Проиграв, Скворцов остался на высоте. О Паше этого не скажешь. Что-то есть роковое в его характере: срываться в последнюю минуту. Так случилось на фронте, так случилось сейчас, перечеркнув его образ взрывом низкой, истерической злобы. Она и представить себе не могла, что такое скрывается в Паше. Ну и пусть, что Господь ни делает, все к лучшему. Кончилось наваждение, она обрела свободу от этого человека, хоть к старости, хоть на исходе плохо и горестно прожитой жизни. Свободна… Пуста, легка и свободна. Черта с два! Плевать ей на его «низкую злобу», на зависть и ревность к Скворцову, на то, что он откуда-то там ушел, да пропади все пропадом, ей никого и ничего не надо, кроме него самого. Любимого. Единственного. Но может, ему надо от чего-то освободиться, выплюнуть из души какую-то дрянь?
— Паша, — сказала она тихо, — что там было?
Он мгновенно понял, о чем она спрашивает. Его будто ледяной водой окатило — перестал дергаться, размахивать руками и твердить свое: «Грандиозно!.. Грандиозно!» Только дышал тяжело, и ей нравилось, как мощно ходит его грудь под серой застиранной рубахой. И опять она подумала: какое ей до всего этого дело?..
— Ты же сама знаешь, — как будто из страшной дали донесся до нее голос. — Все знаешь от Скворцова. Мне нечего добавить.
Ну и ладно… Надо сесть на землю, чтобы видеть его лицо. Когда солнце бьет ему в глаза, радужки становятся такими же синими, как раньше, от нагретой кожи тянет тем же «смуглым» запахом, той же здоровой, чистой жизнью. Она так быстро и бесшумно опустилась на траву возле него, что он не заметил ее движения и не смог ему помешать.
— Паша, — позвала она, дыша им, его кожей, потом, рубахой.
Он потупил голову, изгнав синеву из глаз, лицо стало окаменелым, холодным, всему посторонним, как тогда у валуна. Но ее нельзя было сбить с толку, в лесу полно набродов: пересекающихся, сплетающихся, уводящих в сторону, но хороший охотничий пес держит след.
— Паша… О чем мы говорим?.. Кому это нужно?.. После стольких лет… После твоего воскрешения…
— А я и не умирал, — прервал он с подавленной злостью, он овладел собой, но внутри все клокотало. — Я умер лишь для тебя… и Скворцова.
— Бог с ним, со Скворцовым, — устало сказала Анна. — Но что я могла сделать?.. Ты же исчез. Я посылала запросы всюду. Ответ один: пропал без вести.
— Пропал — не убит.
— Но все знали, что за таким ответом. Могло мне в голову прийти, что ты скрываешься? Это чудовищно, Паша, какое право ты имел так мне не верить? Господи, я бы примчалась за тобой на край света.
— На тот край света ты бы не примчалась, — сказал он почти спокойно.
— Почему?
— Потому что это действительно край света. Не географически, конечно. Я попытался жить среди нормальных людей. После госпиталя. Когда меня наконец дорезали. В Ленинград я не поехал. Все равно ни родителей, ни сестры уже не было… Конечно, я думал о тебе, — произнес он с усилием, — зачем врать?.. Но и разжевывать нечего, так все понятно. Я решил начать сначала, доказать свое право быть среди двуногих. На равных, хоть я им по пояс. Не вышло… Помнишь, как было после войны? На всех углах поддавшие калеки торговали рассыпными папиросами. Коммерция нищих. Я этим не промышлял, учился на гранильщика. Но стоило зазеваться на улице, мне тут же кидали мелочь или рублевки. Никто не хотел обидеть, напротив, жалели, от собственной худобы отрывали. Особенно бабы, я ведь красивый был, помнишь? Но это меня доконало. Казалось, мне указывают настоящее место. Глупо?
Она никак не отозвалась. Анна слышала каждое слово, но не пыталась вникнуть в суть, ей важно было лишь то, что скрывалось за словами. Похоже, он давно заготовил эту исповедь, проговаривал про себя, может, обращаясь к ней, но какое отношение имели эти старые обиды к чуду их встречи? Он хотел что-то объяснить, в чем-то оправдаться — все это лишнее. Пропавших лет не вернуть. Так зачем теперь и настоящее?.. А может, он подводит какое-то обвинение против нее? И это лишнее. Все лишнее. Но ему зачем-то нужно выговориться прямо сейчас, словно для этого не будет другого времени. «Паша, — хотелось ей сказать, — опомнись. Это же я, Аня, девочка с коктебельского пляжа, женщина — пусть ненастоящая — из Сердоликовой бухты». Но Паша не слышал ее молчаливой мольбы — с задавленной яростью продолжал бубнить о своем падении.
Он тоже торговал вроссыпь отсыревшими «Казбеком» и «Беломором», а выручку пропивал с алкашами в пивных, забегаловках, на каких-то темных квартирах-хазах, с дрянными, а бывало, и просто несчастными, обездоленными бабами, с ворами, которые приспосабливали инвалидов к своему ремеслу, «выяснял отношения», скандалил, дрался, научился пускать в дело нож. И преуспел в поножовщине так, что его стали бояться. Убогих он не трогал, здоровых пластал без пощады. Ему доставляло наслаждение всаживать нож или заточенный напильник в распаленного противника и чувствовать, что он, огрызок, полчеловека, сильнее любой все сохранившей сволочи. Он думал, что в конце концов его зарежут соединенными силами, и не возражал против такого финала. Но обошлось без крови — жалким, гадким, смехотворным позором. Раз к концу дня, по обыкновению на большом взводе, он сцепился с девкой из магазина, поставлявшей им краденые папиросы. Девка его надула, чего-то недодала, но не денег было жалко, взбесила ее наглость. Он преследовал ее на своей тележке по Гоголевскому бульвару от метро до схода к Сивцеву Вражку. Девка была здоровенная, все время вырывалась, да еще со смехом. А ударить бабу по-настоящему он даже тогда не мог. Так дотащились они до спуска на улицу, здесь он опять ухватил ее за карман пыльника. Она дернулась, карман остался у него в руке, а он сорвался с тележки и кубарем полетел по ступенькам. При всем честном народе. На тележке же штаны не обязательны, их все равно не видно за широким твердым кожаным ободом. И тогда он сказал себе: все, это край. И подался на Богояр.
— Хорошая история? — спросил он злорадно.
Она не ответила. Обняла его, навлекла на себя, поймала сомкнутые губы и откинулась назад.